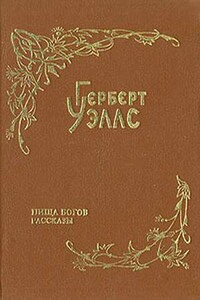Литературная Газета, 6620 (№ 45/2017) | страница 67
Упомянутые произведения Кима Балкова напечатали крупнейшие издательства страны «Советская Россия», «Современник» и «Советский писатель», его прозу широко публиковали столичные и сибирские журналы. Писателю была присуждена Государственная премия Бурятии, дважды – премия журнала «Смена». О творчестве сибиряка размышляли известные критики Андрей Турков, Юрий Лукин, Лилия Полухина, Владимир Шапошников, Василий Найдаков, писатели Исай Калашников и Борис Костюковский.
В конце восьмидесятых мы с Кимом Николаевичем переехали в город нашей юности Иркутск. Здесь он словно обрёл второе дыхание. А главное – его осмысление жизни, художественное письмо получают глубокие, законченные черты. Первый же иркутский роман «Идущие во тьму», посвящённый Гражданской войне в Сибири, показал новые возможности автора в постижении самых потаённых чувств и переживаний героев. Русские люди, вовлечённые в братоубийственную бойню, впадают то в жестокую ярость, то в позднее раскаяние, их охватывает то ужас от содеянного, то безразличие к чужой боли. Писатель мастерски рисует мотивы противоречивых и неуправляемых поступков своих героев, углубляясь в подсознательное и трудно объяснимое.
Наверно, кровоточащая тема нашей недавней истории не давала покоя прозаику. Через несколько лет он вернулся к ней в романе «От руки брата своего». Если в «Идущих во тьму» речь шла о начале разгрома Белого движения в Сибири, то в новом повествовании писатель проследил эту трагедию до конца. Фигуру обречённого на гибель генерала Каппеля из первого романа сменил здесь атаман Семёнов, казнённый уже после Отечественной войны. Новизна всей эпопеи прозаика была в том, что автор не брал на себя роль судьи, определявшего правых и виноватых. Целью его было с предельной правдой, с наибольшей художественной выразительностью воссоздать картину происходившего.
Заметным явлением в российской литературе стал следующий роман Кима Балкова – «Будда». Как известно, жизнь и деяния основателя одной из древнейших религий, реального исторического лица, почти не освещены в художественной прозе. Нужна была большая творческая смелость, чтобы, с одной стороны, создать не обожествлённый, застывший, а живой образ Будды, сына арийского царя, и, с другой – передать во всей сложности его философские и нравственные искания. Тут потребовалась особая стилистика.
Повествование прозаика раздумчивое, неторопливое, по-восточному живописное и образное. Читая роман, я всё время держал в уме, что дед писателя был известным в Бурятии народным сказителем-улигершином, а отец – знатоком словесности и просветителем в наших краях. Есть какая-то заветная струна, звучащая в книгах Балкова. Словно бы родные голоса подсказывают ему точные, мудрые слова: «Не теплом тела, но теплом души жив человек», «Истина есть пожар, и не сгорит в нём душу имеющий», «Недолог век царства, основанного противно человеку, в унижение сущему».