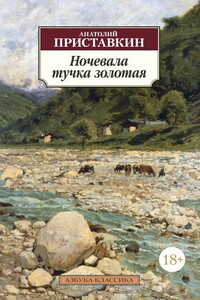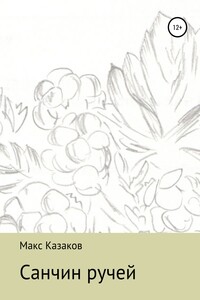Первый день – последний день творенья | страница 44
Про котлеты упоминали лишь потому, что считали их высшим шиком, из другой, не из нашей жизни, недоступной даже в мечтах, никто из нас в ту пору котлет не видел. А вот есть те корочки, которые мне несли заботливые по-своему шакалы, и правда не хотелось.
Странное это было чувство. Среди общего хапежа, когда все у всех клянчили что-нибудь пожевать, как недавно я и сам клянчил, не есть и при этом ничего не желать и ничего не клянчить, и даже отказываться, когда тебе предлагают…
Целыми днями, сидя на койке, я рассматривал свои подошвы, вывернув их из-под себя, чтобы лучше видеть, и на глазах охочей до зрелищ малышни, не спускавшей с меня глаз, ковырял пальцем в нарывах, раскорябывая их до крови и испытывая, как ни странно, не только острую боль, но особое, ни с чем не сравнимое удовольствие.
Но все до поры, пока однажды не появился директор. Он возник неожиданно и еще от дверей будто прицелился в мою сторону. Я не увидел, я лишь почувствовал на расстоянии его испытующий взгляд.
Шагнув в комнату, он осторожно опустился на стул в отдалении от меня и негромко спросил:
– Этот?
Не у кого-то, а вообще спросил, упершись глазами в пространство.
– Этот! Этот! – подсказали ему охотно.
Время для визита было не случайно выбрано под вечер, когда все, и старшие, и младшие, находились после ужина в спальне.
– Не ходит? – поинтересовался директор.
Меня он в упор не замечал.
Разноголосый хор тут же отвечал, что я и в самом деле не хожу, потому что ноги в болячках, а болячки – во какие!
Последнее было произнесено не без восторга и даже не без некоторой гордости.
– Отказывается, что ли, ходить? – переспросил директор, скользя глазами по стенам, по потолку, по соседским койкам.
Я промолчал, поняв так, что спрашивали не меня. Охотников говорить за меня было и так много.
– Отказывается! Он от всего отказывается! – закричали вокруг и начали перечислять, от чего я успел отказаться, но директор перебил, не дослушав:
– А вот мы сейчас поглядим, ходит он или не ходит… А если разучился ходить, так мы его подучим… – И тут же кивнул Жене, который до поры молча стоял у входа, загородив медвежьей фигурой дверной проем. – Как ты считаешь, Женечка, мы научим его ходить?
Женя посмотрел на меня издалека по-особенному и, как мне показалось, жалостливо, был он невероятный добряк и никого по своей воле не обижал. Ни, боже упаси, даже кошку или собаку, не говоря уж о нашей детдомовской братии.
Впрочем, у нас, как в каждом таком гадюшнике, в первую очередь обижали сильных. Но таких сильных, что умеют драться и постоять за себя. Женя хоть и был могуч, но при этом на диво беспомощен и оттого сходил на великовозрастного дурачка: он даже школу не посещал, а занимался хозяйственными делами. Целыми днями он торчал на конюшне, запрягал, распрягал лошадь, возил продукты и был тих и безотказен, как и его послушная лошадка.