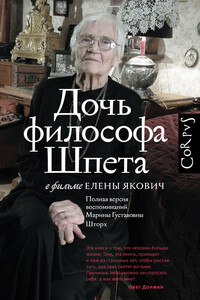Прогулки с Бродским и так далее. Иосиф Бродский в фильме Алексея Шишова и Елены Якович | страница 34
Кое-что о патриотизме
Среди обрывочных диктофонных записей – страшно подумать, но кассет было немного, я экономила и выключала диктофон – есть одна, прилепленная неизвестно к чему, кажется, к упоминанию Рейном чьего-то стихотворения под названием «Родина». А дальше голос Бродского:
Родина, ага. При чем тут все эти разговоры о родине? Знаешь, я тебе хочу сказать, Женька, я тебя собью с толку, да, цитатой. Где-то годах в семидесятых – наверное, это семьдесят пятый – семьдесят седьмой год – я иногда, когда оказывался в Европе, слушал русское радио. Ну, знаешь, у меня Sony. И меня поразила одна вещь. По радио передавались все эти самые песни о родине, о родине, о родине – в общем, такой скулеж совершенно невероятный. Такое впечатление, что авторы этих песен, которые писали их в России, они покинули родину! Как будто написано все извне и плач такой. А я считаю, что в этом есть колоссальное хамство. Нас этому научили, нас натренировали, и когда, скажем, поэт начинает говорить о родине… Страна огромная, масса людей, и он их смешивает, под одну метелку метет… Вот это оборотная сторона «Поэта и государя». То есть – то же самое. Как будто он имеет право. Они все имеют право! И они все кричат. Ладно, что какой-то поэт, но тот же самый Солженицын, и так далее, и так далее. Они вещают! Они всего лишь индивидуальные люди, какие-то крупицы, частицы…
И это не традиция. Скажем, у Державина этого не было. Он общался с Фелицей и так далее, и так далее, но он никогда не выступал за русский народ. Да и Александр Сергеевич этого не делал. И Баратынский этого не делал, и Вяземский этого не делал, и даже Лермонтов этого не делал. И традиция эта возникла со всеми этими разночинцами. И я знаю, что за этим стоит. За этим стоит некрасовский дактиль. Дактиль – он такой плачущий размер, такое причитание, да? И это на самом деле традиция – то есть русского причитания, которая перевернулась в такое, как бы сказать, настаивание, в такую мужскую настойчивость.
Вся русская поэзия, ее центральный главный размер – это четырехстопный ямб и женские окончания. А еще того лучше – дактилические. Причем избыток дактилических окончаний – это главная характеристика русской поэзии двадцатого века, то есть советского периода.
Что за этим стоит? За этим стоит, прежде всего, не рациональный подход к материалу или к тому, что там происходит на самом деле, а такая жалоба и эмоциональная реакция. То есть такое самооплакивание. Грубо говоря, если хотите, скулеж. И даже тогда, когда вы имеете дело с таким замечательным господином, как Пастернак. У кого скулежа не было ни на йоту – это Мандельштам. Это абсолютно поразительная вещь. И это удивительно, да? Он не на этой инерции построен.