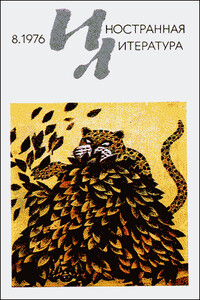Двенадцать обручей | страница 70
И что не менее важно — там присутствует Львов. Тот, каким он был в тридцатые, город, которого уже фактически не существует. А если все-таки существует, то где-то в недосягаемости, отделенный от города сегодняшнего непреодолимой пропастью, имя которой Сон.
Так вот, Львов и Антоныч. Была там любовь или наоборот? Никто теперь не отважится сразу дать ответ на этот вопрос. Ибо что ни говори, именно тут поэт прожил самые главные последние восемь лет. И были они как раз теми годами, что сделали его самим собой. Хотя согласно всем дальнейшим аналитическим расправам (да, именно расправам — это правильное слово!) он должен был чувствовать себя плохо. Его угнетали камень и асфальт, а также непомерные скопления людей, церкви, кондитерские, биржи. Многие из ученых поэтоведов, по природе своей в основном мудрых лисов, видят Антоныча прежде всего эдаким лемковским Маугли, до беспамятства погруженным в глубинное, корневое, этнографическое, зеленое. Кое-кто даже доказывает при помощи тех же его текстов, что по мере появления и разворачивания в творениях поэта урбанистической картины мира его приветно-витальный дух наполняется все более ощутимой мертвенностью и место буйного празднества биоса занимает серо-черное танатическое священнодейство с откровенно зловещим знаком техноса, а следовательно и хаоса.
Такую концепцию в целом стоило бы принять, как говорят в кругах тех же аналитиков, за основу, если б не уверенность, что на деле ее насильно подгоняют к той модели Антоныча, которая имеет ужасно мало общего с его реальной (и сюрреальной) фигурой. И это уже хотя бы потому, что эта модель была отчасти прижизненной, но главным образом посмертной западней, устроенной поэту упоминавшимся уже