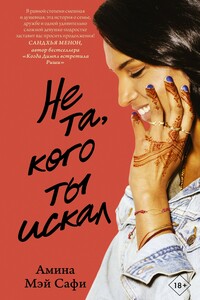Счастье впереди | страница 21
Я напряженно, до усталости крестился и лепетал:
- Бог наш, смилуйся! Ты всемогущ! Спаси маму! Дай ей облегчение... Пусть она поправится! Пожалей ее... И это будет хорошо!
Молился я долго и наконец с шепота перешел на сдавленный крик.
Как ни странно, с первых же слов мне показалось, что меня "там" слышат, что я не бормочу просто в стену. Слова доходят куда следует. Неясно только, как их там расценивают. В любом случае это не очень приятное ощущение. Даже достаточно страшное. Само собой, это совершенно не то, когда ты лялякаешь в телефонную трубку и по смутным колебаниям в ней чувствуешь, что тебе внимают. Скорее моя молитва напоминала попытку разговора мыши с горой.
Мама умерла на другой день за минуту до моего прихода.
Вернее, я в тот раз не пришел - прибежал в больницу. По дороге мне один за другим стали попадаться люди с погребальными венками. Было это плохой приметой или нет, я не знал, но только ноги заработали сами собой. Я побежал. Бежал я быстро, но в любом случае мне было не угнаться за тем, что происходило между мамой и Богом.
У мамы в подглазьях иссыхали две последние слезы. Они словно бы не хотели умирать вместе с ней и выбрались наружу, но и тут им ничто не светило.
В палате сказали, что перед смертью к маме снова вернулась речь, и она звала меня по имени. Чтобы его легче было выговорить, она произносила мое имя нараспев.
Я позвонил отцу.
Он пришел на похороны со своей новой женой.
У гроба отец туго надел на голову свою выцветшую, битую молью летную фуражку без кокарды и едва не полчаса стоял навытяжку, отдавая честь.
Перед похоронами следовало сдать мамин паспорт в погребальную контору. Я знал, что этот документ в шифоньере, но не знал, где ключ. Я этого никогда не знал. Шифоньер неофициально был запретной зоной, и любопытство к его содержимому не поощрялось.
Пришлось взять стамеску. Само собой, замок не представлял проблем.
Живые мамины флюиды дохнули из заматерелого, кряжистого ящика, словно ее душа пролетела напоследок мимо меня.
Я раздвинул висевшую в шкафу одежду с таким чувством, словно ожидал найти здесь, ни мало ни много, потаенную дверцу в детство. Но если бы и нашел, то наверняка не пролез.
Возле задней стенки шифоньера в полутьме стоял киот сердюковской работы. Через стекло, как сквозь оконце, внимательно глядела Божья Матерь, увенчанная короной Царицы Небесной. С правой щеки таинственно и кротко сбегала киноварная кровь.
На Богородице был девственно-розовый мафорий, на младенце Иисусе густо-бирюзовое одеяние - и все это на жарко-золотистом фоне: строгое, даже грозное мистическое трехцветье.