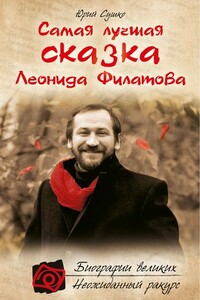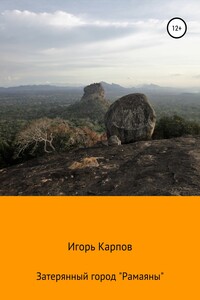Дети Есенина. А разве они были? | страница 48
Билет до Ленинграда у него уже был в кармане. Оставалось заехать в Госиздат за гонораром, – и в путь-дорогу. Однако, как всегда в день выплат, бухгалтерия издательства тянула волынку, ссылалась на необходимость еще каких-то согласований, подписей и пр. В тоске и печали Есенин ухватил за рукав проходившего мимо знакомого литератора Тарасова-Родионова:
– Слушай, Саша, мне тут, гляжу, еще ждать и ждать. Пойдем, кацо, посидим где-нибудь пока… Мне хочется о многом поговорить.
Несколько ошарашенный неожиданным приглашением, Тарасов предложил уединиться для разговора у него, в рабочем кабинете.
– Да нет, здесь неудобно, – отмахнулся поэт. – Пойдем, кацо, вниз, на уголок, в пивнушку, там и посидим. Это же рядом.
Разговор в пивной на углу Софийки и Рождественки получился каким-то странным, рваным и сумбурным. О чем только не говорили! О природе дружбы, о литературе, о друзьях-писателях, о женщинах, конечно, тоже.
– …Нет, Дункан я любил, – убеждал спутника Есенин. – И сейчас еще искренне люблю ее… А Софью Андреевну… Нет, ее я не любил… Подумаешь, внучка! Да и Толстого, кацо, ты знаешь, я никогда не любил и не люблю. А происхождение кружило ее тупую голову… Но себя я не продавал… А Дункан я любил, горячо любил. Только двух женщин любил я в жизни. Это Зинаида Райх и Дункан. А остальные… Нужно было удовлетворять потребность, и удовлетворял… Ты, наверное, сидишь и думаешь, если любил, то почему же разошелся с теми, любимыми?.. В этом-то вся моя трагедия с бабами. Как бы ни клялся я кому-либо в безумной любви, как бы ни уверял в том же сам себя, – все это, по существу, огромнейшая и роковая ошибка.
Есть нечто, что я люблю выше всех женщин, выше любой женщины, и что я ни на какие ласки и ни за какую любовь не променяю. Это искусство… Ты, кацо, хорошо понимаешь это. Давай поэтому выпьем… Да, кацо, искусство для меня дороже всяких друзей, и жен, и любовниц. Но разве женщины это понимают, разве могут они это понять? Если им скажешь это – трагедия. А другая сделает вид, что поймет, а сама норовит по-своему… Давай лучше выпьем еще…
Ночью 28 декабря в квартире Мейерхольдов раздался телефонный звонок из Ленинграда: покончил с собой Есенин. Всеволод Эмильевич сразу не поверил, растерянно переспросил: «Есенин?..» Услышав фамилию, Райх силой вырвала трубку из рук мужа. Заставила далекого собеседника все еще раз повторить. Потом, глядя сквозь Мейерхольда, сказала пустым голосом:
– Я еду к нему.