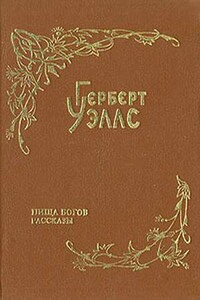Литературная Газета, 6614 (№ 38/2017) | страница 39
Далее в сценарии – нагромождение драматических и даже жутких криминальных обстоятельств, которые привели к тому, что во мне проснулся Станиславский, который всё громче кричал: «Не верю!» Хотя хотелось верить, хотя островки правды встречались в каждой серии, но как поверишь, когда в сериале на базаре продают пирожки за три рубля, а рядом курицу – за два, или гораздо более существенная несуразица: когда сражавшийся с немцами герой (Степан), вернувшись из плена, получает 25 лет (!) лагерей, как будто доказано, что он бывший власовец или полицай. «Вечного зова» не получалось. Почему?
Ответ подсказал Иван Андреевич. Только прошла серия «Отчего берега», в которой на фронте героически погибает глава семьи Макар, как пошёл лучезарный, разудалый эфир «Вечернего Урганта». Начался он с того, что ведущий решил воскресить Макара, то есть лежащего тут же в студийном предбаннике исполнителя роли Алексея Кравченко. Ургант произнёс что-то типа заклинания: «Вам не заплатят деньги за сьёмки в этом сериале», и Кравченко тут же возмущённо «воскрес»: «Как не заплатят?» Многие справедливо обвинили ведущего в цинизме. Мне же показалось, что Ургант невольно ухватил суть. Она действительно крайне цинична: всё на телевидении делается из-за денег. Из-за денег снимаются шоу и сериалы, из-за денег ведущие несут чёрт знает что с экрана, из-за денег актёры играют абы как в телефильмах, потому что сценарии плохи, времени на репетиции нет, и получается нечто, что, отснявшись и получив деньги, нужно забыть как страшный сон.
Однако, продолжая смотреть сериал, я пришёл к выводу, что тут дело не в деньгах. Артисты не халтурили, и уж тем более режиссёр. Дело, как мне показалось, в другом: многое виделось искусственным, натянутым, не оправданным из-за того, что у создателей сериала была своя цель, которой всё подчинялось. Они хотели, чтобы уехавшие из отчего дома в начале сериала братья и сёстры, насмотревшись на городскую жизнь, понюхав пороху, хлебнув горя, став зрелыми людьми, поняли, что ничего лучше родной деревни нет, и потому в конце все четверо вернулись «к родному пепелищу, к отеческим гробам». Очень хорошо, актуально и патриотично. Всей душой «за»: где родился, там и пригодился.
Но вот беда: это противоречит опыту послевоенных лет – тогда крестьяне повсеместно использовали любую возможность, чтобы получить паспорт и уехать из деревни в город. А если уже уехали, то не возвращались, тем более, если в городе у них появлялась хорошая работа. Старший брат стал главврачом в горбольнице, а сестра – актрисой местного театра, и тут Станиславский особенно громко кричал: это не правда характеров, им не «судьба подстраивала козни», а воля сценариста заставила героев обрубать концы, всё бросить и вернуться в деревню.