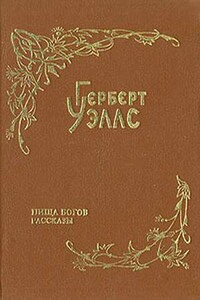Литературная Газета, 6614 (№ 38/2017) | страница 19
Конечно, переводы Самуила Яковлевича Маршака – эпохальное переводческое открытие, ставшее звёздным часом в истории русской сонетианы Шекспира. Маршаку удалось найти особый принцип историко-литературной модернизации шекспировских стихов, ставший залогом неослабевающей читательской любви. Ведь сонеты Шекспира были порождением рубежа XVI–XVII столетий – времени великой славы английской ренессансной поэзии. И Маршак гениально почувствовал, что золотого века переводимой – английской – поэзии мог быть достоин только соответствующий золотой век переводящей – русской – литературы. Поэтому он спроецировал стихи Шекспира хоть и в другое календарное время, но родственное шекспировскому по значимости.
В середине XX века переводы Маршака вызвали взрыв колоссального интереса к сонетам Шекспира и восторженную уверенность в том, что в России они переведены идеально и окончательно. Однако ни канонические, ни окончательные переводы в принципе невозможны. Уникален и неповторим только оригинал, а если он неисчерпаем, каждое новое время обязательно будет открывать его заново.
Не хочу сказать, что я радуюсь переводной множественности и приемлю абсолютно всех её участников. К несчастью, графомания стала печальной реальностью нашего времени так же, как общий упадок издательского дела и читательской культуры. Среди переводчиков шекспировских сонетов тоже есть бесталанные и тщеславные авторы. Но даже по отношению к таким писакам я не хочу поддержать тот радикальный способ, который предложила Белякова: объявить мораторий на публикацию новых переводов Шекспира лет на 20, а законодателям подумать о привлечении к ответственности плохих переводчиков и недобросовестных издателей. Сильно придумано.
Однако – к счастью! – картину современной русской сонетианы Шекспира создают не графоманы. И картина эта очень отличается от той безрадостной ситуации, которую обрисовала Белякова. К тому же непонятно, как сработает предложенный ею мораторий. Время ведь не само по себе вершит свой суд и выбирает достойных. После самого автора эту работу выполняют те, кому он адресовал своё творение, – читатели, переводчики, критики, издатели. А им надо знать произведение, чтобы как-то отнестись к нему, и либо предать его забвению (именно это чуть не сделали современники Шекспира), либо поспособствовать его жизни в веках. Представьте: если мы из-за неимоверно расплодившихся графоманов наложим мораторий на публикации всей новой художественной литературы – что получится?