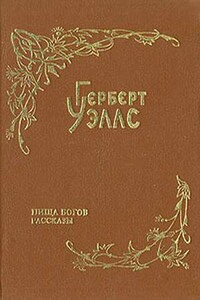Литературная Газета, 6614 (№ 38/2017) | страница 16
– На чём основывается ваш личный метод перевода? Можете представить его в виде трёх основных правил?
– Во-первых, я уже давно пришёл к несколько парадоксальному выводу, что текст оригинала – это ещё не сам оригинал. Текст лишь указывает на оригинал, являясь некоторого рода его отпечатком во времени и пространстве. Автор, чтобы сделать этот отпечаток, пользовался средствами и языком своего времени и своего пространства. В этих средствах и в этом языке есть что-то глубоко индивидуальное, но есть и некоторые стереотипы и клише (говорю это без всякой оценки). Переводчик же вначале пытается сквозь текст разглядеть и расслышать тот идеальный вечный оригинал, оригинал с большой буквы, который не состоит из слов, являясь скорее силовой структурой, тем, что в древности называли «Музой». Если нам удалось до него подняться, то мы, во-вторых, можем, с помощью подвластной нам «стилистики», дать ему возможность заново воплотиться, но уже в другой языковой сфере, в нашем времени, в нашем пространстве. Переводить же просто текст – значит делать отпечаток с отпечатка, репродукцию с репродукции, что всегда будет намного слабее и бледнее оригинала. Надо переводить не текст, а силу, стоящую за ним. А для этого, в-третьих, совершенно необходимо постоцянно читать свой перевод вслух . Только тогда понимаешь, стали ли выбранные тобой ритмы, звуки и семантические элементы в достаточной степени проводниками той таинственной энергии.
– Вы переводили стихи Северянина, Гумилёва, Маяковского… Поэты-модернисты, вероятно, самые трудные авторы для перевода. Как вы решились на такую непростую задачу? Довольны ли результатом?
– Мне кажется, что переводить художественное произведение, поэзия ли это или проза, вообще очень трудно. Ведь это сугубо творческий процесс. В этом отношении я не считаю перевод модернистов более сложным, чем, например, перевод классиков. В каждой вещи есть свои загвоздки, свои проблемы, свои задачи. Разница скорее в том, что в литературе модернизма художественный приём зачастую используется в голом виде, лежит на поверхности. Возьмите, например, такие выпуклые аллитерации, как у Асеева: «Со сталелитейного стали лететь / крики, кровью окрашенные». Или у Маяковского: «Взаимных болей, бед и обид». В таком чистом виде вы их не найдёте у Пушкина или Лермонтова. Это не значит, что их там нет, просто они глубже запрятаны. Но и у Пушкина, и у Лермонтова, точно так же, как и у модернистов, каждый слог играет свою особую роль. Мне ещё никогда не приходилось сталкиваться с «простым» стихотворением. Переводить четверостишие Пушкина ничуть не легче, чем переводить целую поэму Маяковского. Но не скрою, Серебряный век я очень люблю и считаю Николая Гумилёва своим учителем. Переводить модернистов для меня – значит открывать для немецкого читателя изысканную, утонченную и душистую поэзию. Дать ему услышать звуки, совершенно чуждые его уху. Результатами я в целом доволен, если не считать самых ранних переводов с их, быть может, несколько преувеличенным буквализмом.