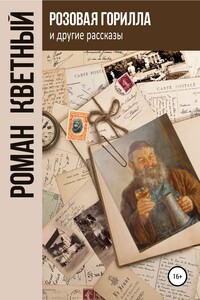Путешествие в Ур Халдейский | страница 109
Когда Орита вновь спрашивала его о делах, он прикрывал глаза ладонью, а затем проводил ею по волосам, словно стараясь сбросить с себя усталость или тяжелые думы, после чего той же самой ладонью делал пренебрежительный жест, мол, вся эта деятельность ничего не значит или мало что пока сделано, а вместе с тем переводил разговор в другое русло, на темы, касавшиеся ее, а не его. Так же примерно вел он себя и с другими, наиболее близкими ему людьми, а с обычными приятелями и разнообразными знакомыми выбирал такую манеру поведения, которая не давала ни малейшей пищи для размышлений о его занятиях, так же как и не позволяла заглянуть в его внутренний мир, невзирая на природные его приветливость и открытость. А если, тем не менее, кто-то по навязчивости или наглости пытался копаться в его тайнах, Гавриэль окатывал таким ушатом воды, что это одним махом отбивало всякий соблазн новых исследований скрытого от посторонних взоров и таящегося в душе того самого сердечного и обходительного Гавриэля. И напротив, он был способен при случайной встрече с абсолютно чужим человеком, просто перекидываясь словами, открыть из происходившего в его внутреннем мире как раз то, что Орита, например, несмотря на все свои усиленные старания, никогда не сподобилась вытянуть из его уст. Иногда, чувствуя себя в струе проносившегося по Иерусалиму и овевавшего их благого ветра, он и ей открывал вещи, о которых она уже давно стремилась узнать, да только то, как он их излагал, каким образом произносил, само их звучание настолько отличалось от хода ее мыслей, что она вовсе не улавливала их смысла, и не раз случалось, что она спрашивала его о чем-то и повторяла свой вопрос вновь, уже с обидой, сразу же после того, как Гавриэль подробно ей отвечал.
— Так какая же работа ожидает тебя в кафе «Гат»? — спросила его мать, прислушивавшаяся через окно к происходившему на балконе и вышедшая из дому в тот момент, когда дочь старого судьи спустилась по ступенькам и направила свои стопы в сторону мужней клиники.
— Это связано с ведением счетов торговой школы и французской фабрики, — сказал он ей, чтобы успокоить ее и утишить ее опасения.
Лишь однажды он попытался дать матери полный ответ на вопрос о характере своих занятий, в тог самый день, когда он вернулся домой, за две недели или за десять дней до того, как о его возвращении случайно стало известно Орите, в волнении прибежавшей, чтобы его увидеть. Еще прежде, чем сын открыл рот для ответа, едва лишь она приметила характерное для него выражение, известный жест руки, прикрывающей глаза, зажмуренные судорожным сжатием всех лицевых мышц, словно бы он хотел стряхнуть с себя тяжкую усталость, сердце подсказало госпоже Джентиле Луриа, что ее настигает именно то, чего она и опасалась, когда ее ушей достигли слова «Библия», «Тора» и различные разговоры о необходимом нам именно сегодня понимании наиболее далеких от нас вопросов, этих омерзительных, отталкивающих, тошнотворных кровавых дел, связанных с жертвоприношениями, требующих нового и свежего прочтения, которое было бы больше связано напрямую с источником, чем все старые комментарии… Когда, как уже было сказано, звуки сии сквозь объявший ее великий ужас достигли ее ушей, ей уже было ясно, что вне всякого сомнения вся никчемность ее отца, того самого неприкаянного старого плотника, целиком перешла к ее единственному сыну. Чудо было сотворено для нее, что Гавриэль, по крайней мере, заботится о своем внешнем виде, ежедневно чисто бреется и следит за отглаженностью воротничка и складками брюк. Не много дней прошло с его возвращения домой, когда она узнала, что для нее было сотворено еще одно чудо — сын ее прячет смутные грезы в узилище своего сердца и не раскрывает всей своей иерусалимской блажи публично перед всем белым светом на манер ее никудышного отца. Два этих чуда рассеяли тучи ее великого страха, хоть и не изгнали его из материнского сердца. Несколько раз намеревалась она высказать свои опасения старому судье, но всякий раз удерживалась от этого, вновь убеждаясь, что почтенный член Верховного суда и сам не избавлен от иерусалимской блажи, явные и несомненные симптомы которой стали проявляться в его поведении во время последних визитов, в особенности со времени смерти Иегуды Проспер-бека.