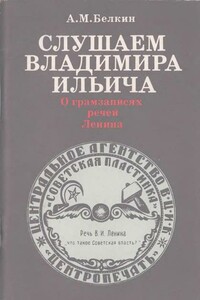Записки | страница 6
Младшее поколение Энгельгардтов было тесно связано с культурными кругами своего времени, чему мы и обязаны, вероятно, самим фактом публикации «Записок». От брака с Екатериной Петровной Татищевой, дочерью известного московского масона и члена новиковского кружка Петра Алексеевича Татищева, у Льва Николаевича было четверо детей: Петр, Анастасия, Наталья и Софья.
Екатерина Петровна была в близком родстве с супругой упоминаемого в «Записках» поэта и партизана Д. В. Давыдова. В его доме в Москве[1] в 1825 г. Анастасия Львовна и познакомилась с поэтом Е. А. Баратынским. В 1826 г. состоялась их свадьба. П. А. Вяземский писал Пушкину об Анастасии Львовне: «Эта девушка любезна умна и добра, но не элегическая по наружности». У Баратынских было 9 детей. Известно, что Анастасия Львовна обладала безупречным вкусом; именно благодаря ей до нас дошли многие стихотворения поэта. Похоронена она рядом с мужем, в некрополе Александро-Невской лавры.
Другим зятем Л. Н. Энгельгардта стал Н. В. Путята, близкий друг Баратынского, видный деятель Общества любителей русской словесности. Дочь С. Л. и Н. В. Путят, Ольга, в 1869 г. вышла за Ивана Тютчева, младшего сына поэта.
В 1816 г. Е. П. Энгельгардт приобрела в Подмосковье поместье Мураново[2]. Оно стало настоящим семейным гнездом, объединившим Энгельгардтов, Баратынских, Путят. После смерти страдавшего душевным расстройством П. Л. Энгельгардта Мураново перешло к Баратынским, потом к Путятам. Затем его унаследовали И. Ф. и О. Н. Тютчевы. За долгую историю Муранова здесь бывали Н. В. Гоголь, Е. П. Ростопчина, А. Н. Майков, Я. П. Полонский, Ф. И. Тютчев, Аксаковы. Во времена Льва Николаевича перед мурановским домом[3] стояли две пушки времен Очакова, из которых в царские дни в детстве С. Л. Путята производила салют; впоследствии эти пушки достались Д. В. Давыдову, также неоднократно бывавшему в Муранове. После смерти О. Н. Тютчевой (урожд. Путяты) в 1920 г. в Муранове открыт музей Баратынских-Тютчевых.
Как пишет сам Л. Н. Энгельгардт, работать над своими «Записками» он начал в 1826 г.; по сообщению Н. В. Путяты, Л. Н. Энгельгардт еще при жизни читал их своим близким, а последняя черновая запись, как уже было сказано, датирована 1835 г. Таким образом, работа над «Записками» велась в 1826–1835 гг. Автор замечает, что создавал «Записки» по памяти; никаких дневниковых записей он при жизни действительно не вел (что подтверждается тем, что он периодически допускает ошибки в датах и именах), хотя, вероятно, использовались какие-то документы семейного архива (как, например, приводимое в тексте и дошедшее до наших дней письмо П. А. Румянцева-Задунайского Н. Б. Энгельгардту). Другим источником были публикуемые в газетах реляции. К этим реляциям Энгельгардт особенно широко прибегал, описывая события, свидетелем которых он не был. Например, описание польского восстания 1831 г. полностью списано им из газет. Так, предложение: «Преследование продолжалось до самой черты пограничной краковской заставы, куда спасся Каменский не более как с 5 офицерами и ни с одним из нижних чинов; все же прочие взяты в плен», — дословно взято из рапорта графа Сакена от 16 сентября 1831 г., помещенного в «Московских ведомостях» (1831. № 78). Точно так же дословно или с минимальными изменениями взяты из газет и все остальные фрагменты этого описания.