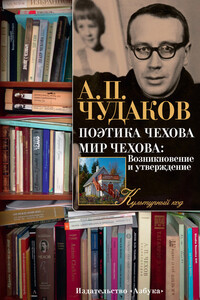Структура и смысл: теория литературы для всех | страница 5
Литературоведение изначально имеет дело не просто с письменными, но с художественными текстами (хотя это понятие – одно из самых сложных и спорных, к чему мы еще вернемся). Оно не может обойтись без обращения к языковым аспектам произведения, но не может и свестись к ним. Литературоведение занимается способами превращения слова в образ, текста – в художественный мир.
За два последних столетия литературоведение превратилось в комплекс разнообразных дисциплин, пережило смену часто конфликтовавших между собой методов исследования.
Проще начать с характеристики так называемых вспомогательных литературоведческих дисциплин. Они непосредственно вырастают из филологической практики и призваны предоставить материал для дальнейшего литературоведческого исследования в наиболее удобной и корректной форме. Вспомогательными эти дисциплины, впрочем, называются условно. В них заключена важная часть филологической работы. Им посвятили жизнь многие крупные ученые-филологи.
Если представить филологическое исследование в систематически-упорядоченном виде, начинается оно в области текстологии. Текстология (от лат. textus – ткань, связь <слов> и греч. λόγος – слово, наука) – область филологии, задачей которой является изучение текста как памятника: выявление рукописей, их датировка и атрибуция (определение авторства), объяснение их смысла (интерпретация и комментирование).
Главная цель текстолога – корректная подготовка рукописи или уже публиковавшегося текста к изданию. Ключевые понятия текстологии – последняя авторская воля и основной (канонический) текст. Текстолог исходит из очевидных соображений: пока писатель работает над текстом, он по каким-то причинам его не удовлетворяет. Следовательно, последнюю авторскую волю фиксирует хронологически самая поздняя рукопись или издание. Поэтому, определив ее и после тщательного изучения исправив неточности и опечатки прежних изданий, восстановив цензорские и редакторские искажения, мы получим основной текст, отвечающий последней авторской воле.
Однако эта простая логическая формула в конкретном применении, на практике, наталкивается на множество исторических сложностей. Автор может оставить несколько рукописей, так и не доведя работу до конца, а может, напротив, издать текст в нескольких вариантах, где поздний очевидно уступает раннему. Цензурные и редакторские искажения бывает трудно восстановить, потому что первоначальная рукопись исчезла. Даже исторические изменения графики и орфографии ставят текстолога перед трудной проблемой. Издавать ли Ломоносова, Державина или даже Пушкина со всеми особенностями орфографии и пунктуации их времени (такие издания называются дипломатическими) или перевести их в привычный для нас вид, тем самым все-таки изменив особенности текста?