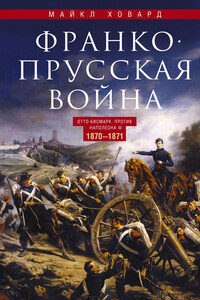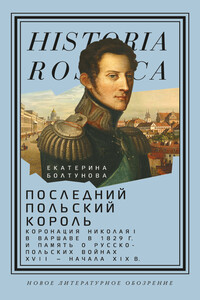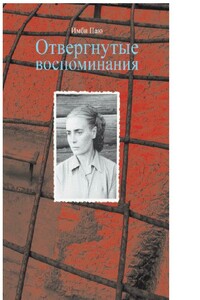Могила Ленина. Последние дни советской империи | страница 130
Если Бурдонский и не вытеснил из своего сознания постоянную мысль о Сталине, он хотел думать, что ему это удалось. Я не встречал человека, который говорил бы о Сталине с такой скукой в голосе и так отстраненно. “Если рассматривать это как феномен культуры, — бесцветным тоном говорил он, — будет наивно представлять Сталина воплощением чистого зла, после того как его провозглашали лучшим другом всех народов, детей, животных, наиболее выдающейся личностью нашей эры и так далее. Я думаю, он верно претворял в жизнь идеи Маркса. Увы, это был единственный способ их воплотить…”
Лишь однажды Бурдонский публично выказал свое недоброжелательство: это было во время телевыступления, когда он недвусмысленно дал понять, что своего деда презирает. Его родственников-сталинистов это привело в ярость. Когда я позвонил Евгению Джугашвили, он предупредил: “Только одно. Не говорите со мной об этом пидорасе, моем двоюродном брате. Он предал Сталина. Своего деда”.
Отцом Евгения Джугашвили был Яков, старший сын Сталина. Яков воевал, попал в плен. Когда Сталин не захотел или не смог его обменять, Якова казнили[54]. В день, когда я встретился с Евгением Джугашвили, он готовился оставить свой пост в Министерстве обороны, уйти в отставку в 55 лет и переехать в Тбилиси. Человек, открывший мне дверь, выглядел в точности как Сталин, разве что был несколько худее и носил не густые усы, а тонкие усики. Но сходство все равно было пугающим. Он был одет в военную форму и поначалу держался с такой важностью, будто был членом политбюро. Мы вошли в комнату, где висело несколько портретов Сталина, а книжный шкаф был забит книгами по истории КПСС и Советской армии, вышедшими в сталинское время. В комнате стоял простой стол, на нем — стопка чистых листов и несколько отточенных карандашей. За стол мы и сели.
— Так, какой у вас первый вопрос? — спросил он, сверля меня глазами. Его нельзя было заподозрить в наивности: он понимал, что ничего хорошего от посещения американского репортера ждать не следует, и, вероятно, был прав. Но я не видел смысла в том, чтобы вступать с ним в конфронтацию. Я просто спросил, что он думает о своем деде и об обвинениях, предъявляемых ему в статьях и внутри партии. Этого вопроса он и ждал.
“Я всегда обожал Сталина, — ответил он. — Никакой съезд, никакая книга, никакая журнальная статья этого не изменит, не заставит меня в нем сомневаться. Прежде всего он мой дед, и я им восхищаюсь”.