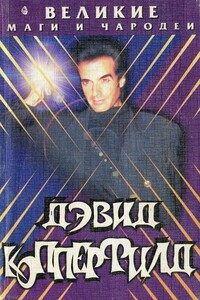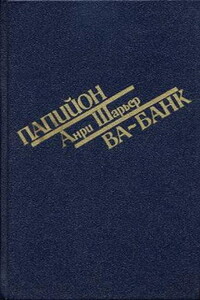Чернильница хозяина: советский писатель внутри Большого террора. | страница 37
>Выборы в Верховный Совет СССР. 1937 год
>© ТАСС
Новый, 1938 год Афиногенов встречал на даче в Переделкине с чувством, что все самые страшные испытания уже позади: «Спасибо тебе! Жестокому испытанию ты подверг меня, сколько раз я молил — „довольно, пощади“! Нет, еще и еще ты ударял меня и растягивал самые удары, как бы испытывая крепость моего сердца. И сердце выдержало, оно выковалось под этими ударами, оно научилось так ценить и любить жизнь, как никогда до этого времени!» — записал он в дневнике 30 декабря. По мысли Афиногенова, месяцы, проведенные в ожидании ареста, оказали на него то же воздействие, какое в официальной риторике середины 1930-х годов принудительный труд оказывал на заключенных: они очистили и перековали его душу.
Решающим днем стало 18 января, когда по радио зачитали постановление Пленума ЦК «Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКП(б) и о мерах по устранению этих недостатков». Ничего не говоря о давлении со стороны НКВД, постановление называло местные парторганизации виновными в «преступно-легкомысленном» отношении к исключению людей из партии. Давая надежду несправедливо исключенным, оно одновременно открывало возможности для очередной волны партийной чистки и настаивало на необходимости разоблачить засевших в партии карьеристов и врагов. От волнения Афиногенов не мог заснуть. В тексте постановления он узнал знакомый ему сталинский стиль. Он вышел на мороз без шапки, гулял и думал о гениальности вождя.
>Расписка, полученная Афиногеновым при сдаче партбилета. 1937 год
>Российский государственный архив литературы и искусства
Все необходимые для восстановления документы Афиногенов собирал в отдельную папку, которая увеличивалась, по мере того как террор набирал силу. Критиков и функционеров, исключивших Афиногенова весной 1937 года, теперь самих прорабатывали. Не скрывая своего злорадства, он собирал газетные вырезки с соответствующими новостями. У него теперь было много дел: помимо поездок в райком, он собирался встретиться со своими старыми коллегами-литераторами, чтобы включиться в работу Союза писателей. Всеволод Вишневский, громивший его на собрании драматургов, принял его в орденах, «вежливо, но холодно» и обещал перепроверить материалы дела об исключении его из Союза.
Дача Афиногенова снова заработала как художественный салон: 29 января у него собрались Вера Инбер, Константин Федин и Всеволод Иванов с женой, чтобы послушать Пятую симфонию Шостаковича. Московская премьера симфонии должна была стать для собравшихся знаковым событием. В 1936 году музыку Шостаковича объявили на страницах «Правды» сумбурной и антинародной, и с тех пор композитор был в опале. Новая симфония должна была показать, что он сумел упростить свою музыку и перестроиться под требования социалистического реализма. За несколько дней до премьеры Шостакович опубликовал в «Вечерней Москве» статью, где назвал свою работу «деловым творческим ответом советского художника на справедливую критику». Газеты встретили симфонию восторженно, а Афиногенов назвал ее в дневнике «сверкающим озарением»: «В ней действительно ощущаешь новое качество видения мира, его слушания — конечно же, наши демонстрации, наша Красная площадь, наша бурная радость… — все это отразилось в организации звуков».