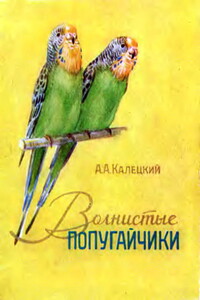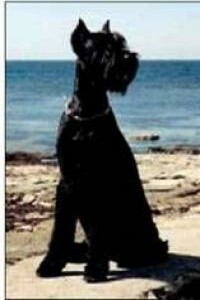Самые маленькие собаки | страница 76
Во-вторых, японские хины никогда не имели никакого отношения ни к Испании, ни к ее
кроликам.
И, в-третьих, единственным поводом называть хинов какими бы то ни было спаниелями
является их симпатичный облик (в частности, богатая шерсть). Примерно такая же история
произошла с так называемым тибетским спаниелем. Называть подобных собачек спаниелями
можно только на основании их миловидности. Но ведь это не серьезный довод! Тогда уж
давайте всех хорошеньких маленьких собачек называть спаниелями! Кто против? Любители
спаниелей явно проголосуют «за». Так же ошибочно некоторые совершенно далекие от
терьеров породы собак называют терьерами. Но на свете много чудес, тем более
терминологических! Если мы будем следовать такой логике, то придется согласиться с
известным древним «хулиганом» Диогеном Синопским, который в свое время, основываясь на
учении Платона («Человек – это двуногое животное без перьев»), притащил на афинский
Акрополь ощипанного петуха и стал утверждать, что это есть «человек Платона».
Однако явное физиономическое сходство хинов с китайскими собачками дает основание
утверждать, что японские хины произошли от еще более древних китайских собак, которые
могли попасть в Японию в VI в. н.э. – в период введения там китайской иероглифической
письменности. Но это столь давние времена, что в связи с отсутствием каких-либо документов
вопрос о происхождении японских хинов остается безответным и фактически лишен смысла.
Японцы очень ценили в своих хинах миниатюрность, содержали их в бамбуковых
клетках и специально мучали щенков, чтобы те не росли – чем меньше, тем драгоценнее! Это
требовалось для того, чтобы дамы могли носить их в обтянутых шелком корзиночках или
просто в складках своих кимоно. Исходя из всего этого, можно предположить, что рекорд по
миниатюрности собачек был некогда достигнут именно в Японии, просто сведения об этом не
сохранились.
В Японии хины не находились в такой строгой изоляции, как пекинесы в Китае, но и там
убийство собачки приравнивалось к убийству человека. Сама же Япония после контактов в XIV
в. с «хищными» европейцами: португальскими, испанскими, а потом и голландскими
«цивилизаторами» – сначала весьма решительно ограничила контакты с «бледнолицыми», а в
середине XVII в. и вовсе свела их к минимуму. Поэтому за все столетия после открытия