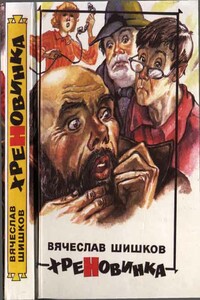Повести и рассказы | страница 35
— Ну, а как в России, не слыхать?
— В Росси-и-и, — протянул он и прищелкнул языком. — Роду-няру, дрянь… Собак кушают. Клеб нет… Гнилой картул.
Лазарет поразил Николая Реброва: все горит, белеет, блещет. На столиках, против каждого больного, букет цветов из оранжереи и приемная — зимний сад из пальм.
На все это юноша смотрел сквозь стекла двери, внутрь его не пустили, и ему не пришлось как следует проститься с поручиком Барановым.
Домой он вернулся поздно ночью. Настроение скверное, подавленное: было очень жаль Варю, жаль самого себя и поручика Баранова. Он понимал, что Варя гибнет и что под его собственными ногами почва превращается в болото. В ком же искать поддержку? Ножов бежал, поручик Баранов наверное умрет, сестра Мария принадлежит другому. Вот разве Павел Федосеич: мысли его ближе и роднее юноше, чем мысли брата.
Из восьми писарей ночевали дома только четверо. А где же остальные? Но Николаю Реброву ужасно хотелось спать.
Утром, оправляя постель, он нашел под подушкой письмо в конверте за сургучной казенной печатью. Вскрыл. Размашистым кудрявым, как дикий хмель, почерком было выведено:
Следующая строчка письма зачеркнута и дальше — проза:
«Мы съ товарищами бежимъ, милый Коля, старайся и ты утечь. Очень ужъ стосковался я по родине. А въ Эльзе полное разочарованiе произошло, она вроде беременная, ссылаясь на меня. Я же сомневаюсь. Во всяком случае навести ее и утешь, а полотенце мое и мыльница мильхиоровое отбери, взявъ себе на память обо мне и Николае Масленниковомъ. Его превосходительству низкiй приветъ съ кисточкой. Адью, адью».
У Николая Реброва задрожали руки и что-то неясно, но настойчиво скользнуло в душе: вот бы. Он сорвал с храпевшего Онисима Кравчука одеяло и ткнул его кулаком в бок:
— Вставай! Слышишь?!
Кравчук сел и таращил сонные, опухшие глаза. Белье его было невероятно грязно и засалено, как и он сам.
— Когда они бежали? — спросил Ребров.
Кравчук достал из-под кровати кусок шпику, сдул с него пыль и стал рвать зубами. Он чавкал с наслаждением, закрыв глаза и покачиваясь. Широкая грудь его была вся в шерсти, поблескивал серебряный крестик.
— Кравчук, слышишь?! Когда Масленников бежал?
Хохол открыл узенькие глазки и сказал:
— А ну, хлопче, пошукай трохи-трохи хлеба.
Николай Ребров плюнул и поспешно надел шинель — было десять часов. Кравчук вновь повалился на кровать.
В канцелярии уже сидели три писаря. За дверью слышались неверные шаги генерала и злобное кряканье. Писаря совещались, как быть.