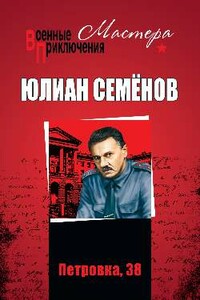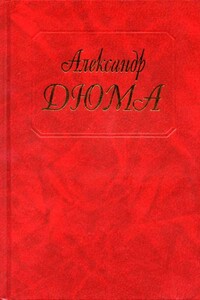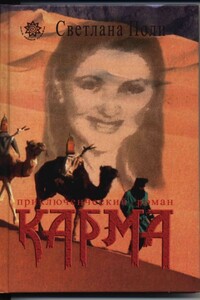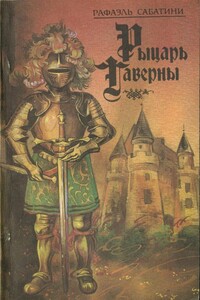Горение. Книги 1,2 | страница 23
— Разве можно вешать героев? — спросил Феликс, выслушав рассказ матери про то, как Траугутт вместе с юным офицером графом Львом Толстым весь день первого мая возводил укрепления вокруг Севастополя под неприятельским постоянным огнем — палили ядра, остро пахло порохом и жженою серою, а потом штурмующие переместились так близко, что начали отстреливать русских офицеров из штуцеров, словно на забавной африканской охоте.
— Нельзя вешать героев, — ответила мать, и глаза ее повлажнели, — нельзя, мой мальчик. Но ведь нашего героя вешал царь. Нет выше памяти, чем память об убитых героях, — запомни это. А повесил царь вместе с нашим Траугуттом и русских офицеров, а защитил поляков громче всех Герцен. Зло, Феликс, не в крови человеческой, но в Духе его — как и Добро.
В Вильно, в гимназии, начав агитировать в кружках, Дзержинский, чтобы раз и навсегда отбить возможные упреки в том, что он «возмущает» рабочих, пользуясь темнотою их, рассказывал им про Траугутта, кавалера орденов за оборону Севастополя, дворянина и землевладельца, отринувшего имущественное, сиречь свое, во имя общего, польского, — что, подчеркивал Дзержинский, тридцать лет назад было правильным, но сейчас, коли повторять горячечные лозунги Пилсудского о величии польской нации, об ее особости, сугубо неверно; свобода Польше может прийти только как результат борьбы всех трудящихся империи во главе с русскими пролетариями против самодержавия и капитала; ежели поодиночке — как курей перебьют, ребенку ясно.
Когда в Вильно он получил задание напечатать первую прокламацию на гектографе, долго думал — чему посвятить ее?
Сначала Дзержинский было решил написать о Костюшко и Мицкевиче, о днях революции 1831 года, когда наместник Константин позорно бежал из Варшавы, но потом решил, что это следует рассказать кружковцам, которые истории не учили, значит, прошлого, как, впрочем, и настоящего, были лишены; рассказ может и должен быть эмоциональным, волевым, не втиснутым в рамки тугого, неподвижного конспекта. Прокламация, считал Дзержинский, которому тогда едва-едва сровнялось семнадцать, обязана быть подобной бомбе — взрывоопасной, точной и краткой по форме.
Дзержинский исписал несколько тетрадок; рвал, жег, не нравилось — много слов, эмоций, рассуждений; фактов — мало. Тогда он решил иначе: соединить устный рассказ о недавнем, казалось бы — всего тридцать пять лет прошло, восстании 1863 года с прокламацией о том, как расправились с героями.