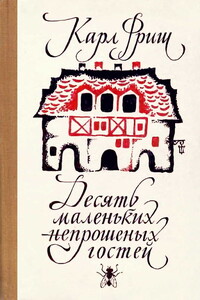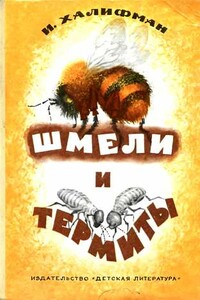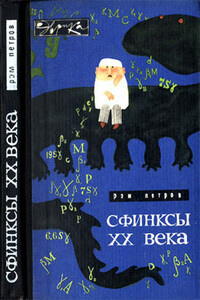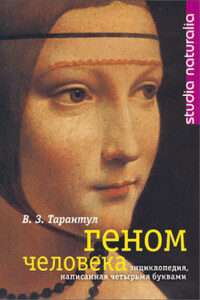Пчелы. Повесть о биологии пчелиной семьи и победах науки о пчелах | страница 47
Сегодня именно эта сторона строительного процесса в улье представляет особо острый интерес. Улей, полный пчел, мы имеем основание рассматривать как некую систему из достаточно большого числа элементов. Если в такой улей вставить лист искусственной вощины – прямоугольник гофрированного воска, пчелы принимают это подобие перфокарты за побуждающий к действию сигнал. Они не теряют зря времени, не расходуют зря воск, но, довольствуясь полученным, углубляют и удлиняют все ячеи, намеченные на листе. Проходят иногда считанные часы, и сот из нескольких тысяч ячеек готов от первого – верхнего до последнего – нижнего этажа, а ячеи в центре могут быть даже засеяны. Вскоре они окажутся занятыми первыми личинками. Здесь пчелы, не фальшивя, продолжают строительную мелодию с любого предложенного им аккорда. Кстати, эта пластичность поведения, далеко выходящая за пределы инстинкта, дала повод для размышлений о произвольности границ, устанавливаемых между инстинктом и собственно разумом.
Видный французский специалист Э. Альфандери в конце XIX века описал наблюдавшиеся им и зарегистрированные некоторыми другими пчеловодами очень редкие, но все же не исключительные случаи сооружения пчелиных сотов не сверху вниз, что является нормой, а, наоборот, снизу вверх. В связи с этим Альфандери заметил: пчелы превзошли и архитекторов и строителей, так как оказались способными вести сооружение как сверху вниз, так и снизу вверх, что нам кажется интересным, потому что так строим и мы…
Впрочем, даже с учетом этих фактов можно считать бесспорным, что норма инстинкта ведет к сооружению биологически целесообразно организованного гнезда, и в нем, как свет в фокусе, загорается новое качество: архитектурное совершенство. Во всем сконцентрирован, как уже говорилось, опыт ушедших в прошлое поколений. Это верно и в отношении оптимальной формы ячеи.
Десятки миллионов лет действия естественного отбора отшлифовали конструкцию сотов, шестигранность ячей, пирамиду из трех ромбов в основании, параллельность стенок шестигранника, чуть наклонную ось всей ячеи к основанию…
Точно так же и распыленность, дискретность каждой строительной операции, в которой участвует множество пчел, должны были шлифоваться действием естественного отбора. Но объяснить преимущества и силу этого принципа организации во времена Дарвина было невозможно. В XIX веке естествознание еще не созрело для понимания ныне всеми признанного положения, что системы из достаточно большого количества элементов, каждый из которых действует чисто «арифметически», могут приобретать качественно новые свойства. До открытия биологического «эффекта группы» должно было пройти целое столетие!