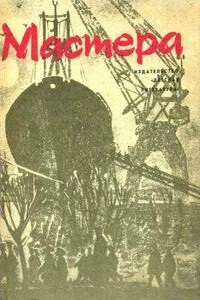Операция «снег» | страница 9
— Вылезай… — мрачно сказал отец, вернувшись. — Рассказывай…
— А отсюда можно? — дипломатично спросил я.
— Валяй оттуда…
И я честно признался, что я так обрадовался, что научился читать… Что так обрадовался — и стал думать, что бы такое предпринять и придумать, чтобы все узнали, что я умею читать…
— Зачтокал… — вмешалась мама. — Ты зачем голубей наделал? Зачем в форточку выпустил?
— Ну, папа, как она не понимает… — коварно прибегнул я к мужской солидарности. — Я хотел сначала листовки, как на встрече челюскинцев. Но голуби дальше летят, их многие видят… Я старался на крыши трамвайных вагонов попасть… Голубь уедет далеко-далеко, а какой-нибудь мальчик найдет голубя с азбукой и тоже читать научится… Я ведь как лучше хотел! Чтобы всем было ясно — это я, я умею читать! Аз есмь…
Отец поперхнулся чаем и долго откашливался.
Пороть меня, понятно, не стали…
МОЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
…Итак, она была достойна любви, и я любил ее. Я же — с ее точки зрения — не был достоин любви, и она меня не любила.
Как говорят, это старая-старая история, но я в те дни был извинительно молод и мне еще предстояло узнать эту мудрость.
Мою первую любовь звали Ритой. И прогулка с ней была моей тайной гордостью. С каким высоко задранным носом поглядывал я на других, менее счастливых жителей поселка, мимо которых, нарочито не спеша, дефилировал я с моей спутницей!
Ежели признаться честно, то, пожалуй, утверждение «не любила» будет слишком самоуверенным.
Оно все-таки предполагает хотя бы проблеск некоего активного чувства. Нет, Рита относилась ко мне с обидным равнодушием, подобно ее отношению к мелкому соседскому пуделю Тришке, словно бы выкроенному из старой, давно нечесанной овчины. Овчинка эта явно не стоила выделки…
Я не вызывал у нее и ненависти, и она снисходительно позволяла гладить себя по спине и за ушами, но ее огромные карие глаза не выражали при этом никакого удовольствия. Она совершенно спокойно обнюхивала меня при встречах…
Так же без всякого восторга она принимала мои дары и приношения — лишь чуточку обсосанную мозговую кость, кусок сахара или редкую в ту пору шоколадную конфету, подтаявшую от долгого, судорожного держания в кулаке…
Это самоограничение и самопожертвование вызывало у меня внутри какое-то сладкое замирание, ибо я смутно осознавал, что иду на это самоограничение и самопожертвование во имя другого, более сильного и высокого чувства. Какого? Только теперь, через много-много лет оглядываясь на самого себя, я понимаю, что это делалось именно во имя любви — большой и всепоглощающей.