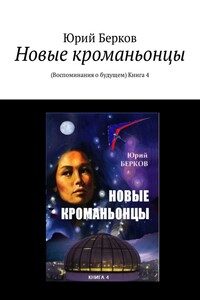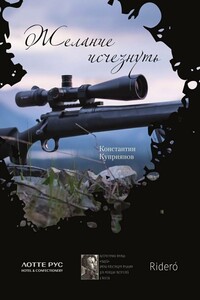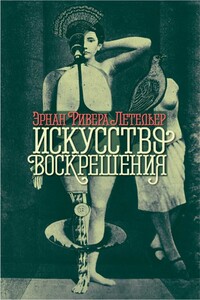Пятое измерение | страница 33
"...Нужен хоть кусочек общественной и политической жизни, хоть маленький кусочек, а эта жизнь в четырех стенах без природы, без людей, без отечества, без здоровья и аппетита - это не жизнь, а какой-то..." (А.С. Суворину, 1891).
"Ах ты мой человек будущего!". Это уже из письма Чехову О.Л. Книпер.
С другой стороны, читаем: "Я, вопреки Вагнеру, верую в то, что каждый из нас в отдельности не будет ни "слоном среди нас" и ни каким-либо другим зверем и что мы можем взять усилиями целого поколения, не иначе. Всех нас будут звать не Чехов, не Тихонов, не Короленко, не Щеглов, не Баранцевич, не Бежецкий, а "восьмидесятые годы", или "конец XIX столетия". Некоторым образом, артель". (В.А. Тихонову, 1889).
Или: "Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр. Я верую в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России там и сям - интеллигенты они или мужики, - в них сила, хотя их и мало. Несть праведен пророк в отечестве своем; и отдельные личности, о которых я говорю, играют незаметную роль в обществе, они не доминируют, но их работа видна; что бы там ни было, наука все продвигается вперед и вперед, общественное сознание нарастает, нравственные вопросы начинают приобретать беспокойный характер и т.д. и т.д..." (И.И. Орлову, 1899).
Воспользуемся определением Чехова и обозначим поколение его сверстников восьмидесятниками XIX-го столетия. Иными словами - детьми шестидесятников, более явно и четко, чем восьмидесятники, осознававшими себя некоторой политической и социально-культурной силой; так или иначе они были озадачены и активны. Чему не мог не позавидовать и Чехов. Вот как он пишет о предшественниках А.С. Суворину (1892), о писателях, "которые пьянят нас, имеют один общий и весьма важный признак: они куда-то идут и Вас зовут туда же, и Вы чувствуете не умом, а всем существом своим, что у них есть какая-то цель, как у тени отца Гамлета, которая недаром приходила и тревожила воображение. У одних, смотря по калибру, цели ближайшие - крепостное право, освобождение родины, политика, красота или просто водка, как у Дениса Давыдова, у других цели отдаленные - бог, загробная жизнь, счастье человечества и т.п.".
Что же до восьмидесятников, то они, входя во взрослую жизнь, долгое время были разрозненны. Без духовной сферы над головой. (Так и напрашивается аналогия с восьмидесятниками нашего XX века). Часть из них, и не самая худшая, так скажем, покинули духовную цитадель, храм или церковь (последнее и в прямом и переносном смысле) и оказалась как бы нигде, в неприкаянном странствии. А молодой М. Горький и непосредственно побродяжничал по миру. Ощущение одиночества сопутствовало многим из них. Лоскутьям вроде идей 60-х годов (определение Чехова) не дано было прикрывать их неприкаянность. И в либеральных ценностях они определялись трудно и долго. И укрепиться в них многие так и не смогли.