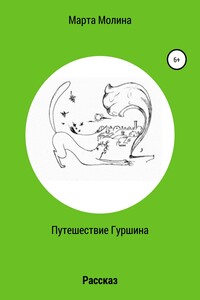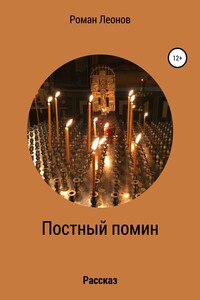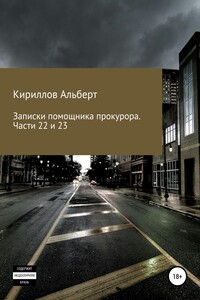Пятое измерение | страница 16
речи, а есть ли политическая грамотность.
В.П. Зинченко, академик РАН
В 60-е годы (точнее - уж и не помню) меня преследовала одна благородная идея: отчего бы не организовать гуманитарное сообщество (сейчас сказали бы движение) людей, осознанно выбирающих для себя безупречно нравственный образ мыслей и действий. Не орден затворников, нет. Напротив, подобное поведение мыслилось подчеркнуто публичным, декларированным даже. Вот, мол, вам, глядите...
Этакий отголосок хрущевской оттепели. Побуждение наглядно вразумлять несовершенное социалистическое государство. Да и общество тоже. Подтолкнуть их к выздоровлению, к гуманным преобразованиям, к раскрепощению личного и личности. И не заговорщическое какое-нибудь побуждение, а вполне открытый поиск инструмента воздействия...
Первый, кому я поведал об этом , был близкий мне человек, в том числе и в гуманитарно-газетных наших занятиях, к которым он относился тоже всерьез. Как и вполне основательно воспринимал самого себя и свое участие в культурной деятельности.
Однажды за столом, то ли сервированным чем-то горячительным (а, может, и просто так сидели), этот мой старый товарищ заявил:
- Ребята, я буду министром культуры.
- А меня возьмешь с собой? - спросил третий, тоже близкий нам тогда товарищ.
- Нет, - был ответ спустя минуту.
Так вот, однажды я изложил ему как заветную свою идею создания общества, или организации, или союза людей, сознательно всякий раз ставящих себя в духовные рамки, в границы нравственного, и дающих в этом некий публичный зарок.
- Такого мне не поднять, - ответил он, опять задумавшись и, пожалуй, не без растерянности. - Даже я не гожусь для этого.
И улыбнулся...
Прошли годы, не одно десятилетие. Растворилась в прошлом, рассеявшись на глазах, столь крепкая, казалось, пирамида социалистического государства, которое следовало усовершенствовать. Личное и личности, по крайней мере, были отпущены на волю. Мой старый товарищ успел побывать в министрах культуры. И даже при перетрясках в правительстве удерживался на своем новом месте.
Процесс пошел, но не в сторону нравственного очищения. Наоборот, неявная болезнь обнажилась, повылезла из всех углов. Повылезла, поскольку ей нечего стало опасаться идеологических неотложек и шумных карет политической скорой помощи, сновавших прежде повсюду.
Что до благородных идей самосовершенствования и общественного совершенствования, то с ними стало еще неуютней. Как и нравственные наши недуги, они тоже запросились наружу. Даже раньше, чем явления общественно-болезненные, поскольку первые порывы перестройки воспламеняли души, звали на трибуны, побуждали проговаривать то, что накопилось внутри. Все это несколько напоминало первые послевоенные годы, когда поколение, входящее во взрослую жизнь, ощутило, что вот теперь, с наступлением мира, после всего пережитого и преодоленного придут Новые времена согласия и духовной полноты. Эти ожидания, эта вера сформировала возрастную плеяду наших шестидесятников.