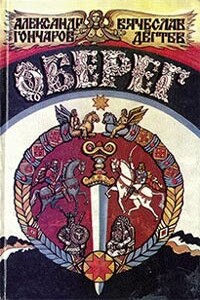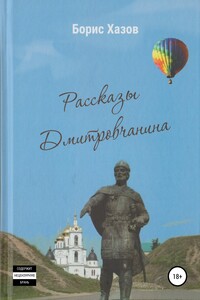Сладчайший | страница 14
— А нельзя ли вот это передать? — протянул клетку с соловьем.
Бабка всплеснула руками в умилении:
— Ах, хорош-то до чего, маточкя моя! Что, и песни играет?
— Играет, — ответил ей в тон. — Еще как!
— Так время-то ихнее, соловьиное, зараз уже отошло.
— Ничего, мой особенный. Поет круглый год.
— Будя брехать-то!.. Ах, а что ж он у тебя не поён, не кормлён? Чего соловьи едять-то?
Я сказал, что соловьи вообще-то едят муравьиное яйцо, мучных хрущей, живых и дохлых тараканов, тертую морковь, вареную или сырую говядину, пропущенную через мясорубку, а также крутые рубленые яйца употребляют, но что моему ничего этого не надо.
— Это почему же?
— Потому что мой соловей особенный.
Бабка опять досадливо махнула на меня клешнятой рукой:
— будя брехать-то! — и побежала искать, из чего бы «исделать» поилку и кормушку.
Я еще раз попытался объяснить ей, что моему соловью ничего этого не нужно, он не ест у меня, не пьет. Она остановилась, недоуменно вылупив на меня недоверчивые, выцветшие глаза: как же так, дескать? Я не стал объяснять, махнул рукой и вышел. Душа моя горько плакала.
Я вышел из больницы и долго брел, сам не зная куда. Вдруг остановился, поднял затуманенный взгляд от земли и вздрогнул. А стоял я, братцы мои, возле церковной ограды… Церковь была пуста. Где-то у алтаря несколько старушек собирали в картонные коробки свечные огарки с сияющих золотом подсвечников. Я озирался, не зная, что делать, как вести себя, куда подходить, куда смотреть и вообще зачем я тут. Подошел батюшка с раздвоенной черной бородой, в которой блестели серебряные нити седины.
— Что случилось, болезный?
И я рассказал ему все-все. Все без утайки. Про свою непутевую, несложившуюся жизнь, про свое одиночество, про свои сомнения и дерзания, про свои идеи и ереси, беспросветность и неверие, а также сказал про встречу, про любовь и надежды, про болезнь ее и про свое отчаяние. Впервые в жизни я исповедовался.
Час мелькнул, как минута. Батюшка вздохнул и пробормотал:
— Ох уж эта интеллигенция! И начитанны вы, и образованны, но каждый день совершаете глупость за глупостью и подлость перемежаете предательством… — И дал мне молитвослов. — Молись, — сказал, — и надейся. Положись на Божественное провиденье. Господь милостив. Но впредь не сей завистливого зла, чтоб не настигал тебя завистливый рок.
Он благословил мою склоненную голову и удалился. А я наугад раскрыл в церковном пахучем полумраке молитвослов и уткнулся в акафист Иисусу Сладчайшему. Стал читать, испытывая странное, не известное никогда ранее чувство: «Ангелов Творче и Господи сил, отверзи ми недоуменный ум и язык на похвалу пречестному Твоему имене, якоже глухому и гугнивому древле слух и язык отверзал еси, и глаголаше зовый таковая: Иисусе пречудный, ангелов удивление; Иисусе пресильный, прародителей избавление; Иисусе пресладкий, патриархов величание; Иисусе преславный, царей укрепление; Иисусе прелюбый, пророков исполнение; Иисусе предивный, мучеников крепосте; Иисусе претихий, монахов радосте…»