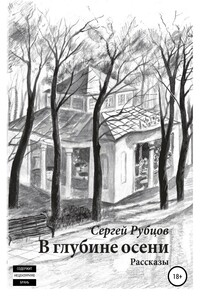Чехословацкая повесть. 70-е — 80-е годы | страница 40
Добеш с недоумением уставился на нее, затем откинул волосы со лба. Открывая холодильник, она головой разбила ему губу. Из пораненного места теперь сочилась кровь. В глазах его вспыхнуло изумление.
— К чему ты приплела мою жену?
— Я спросила тебя о чем-то.
Левой рукой она притянула ворот платья к шее, правой застегивалась.
Добеш закурил. Увидев кровь на мундштуке сигареты, он сердито зажал губу платком.
— А для чего ты, собственно, шла со мной?
Она покачала головой:
— Не кричи, прошу тебя.
Она и сама этого не знала. Сначала хотела, потом не хотела и наконец пошла. Может, только наперекор страху, чтоб не дать ему разрастись.
— Не знаешь!.. — Добеш криво улыбнулся и прерывисто вздохнул. — Оказывается, не знаешь!..
— В другой раз я все равно с тобой не пошла бы.
— Что значит в другой раз, скажи пожалуйста!.. — Добеш перевернулся на живот, сжал ей щиколотки. — В другой раз… — Голос у него был страдальческий, а слова он все растерял.
Девица встала. Добеш удерживал ее, и ей было больно, но она улыбалась. И вдруг ее охватило тягостное сожаление, оно исходило от крепких объятий мужчины, и это сожаление распространялось на все, окружавшее их, — чистое небо и тихое дыхание деревьев, надломленный стебелек травинки и лиловую чашечку безвременника. Сожалением были вызваны и слезы, они тоже отозвались в ней болью, как и все, что ушло, и все, что еще не свершилось.
— А чего там признаваться? Просто разведусь, и все.
Она кивала головой и всхлипывала. Не первый раз слышала она эти слова, но ни на кого не была за них в обиде, потому что ей хотелось их слышать. Теперь она знала, почему поехала, и плакала оттого, что ей опять удалось то, чего она добивалась.
Пальцы у мужчины были пальцами фокусника, а она была его волшебной шкатулкой.
Рука человеческая не касалась этих пластинок серы, машина выплевывала их все абсолютно одинаковыми и безжизненными, но такой уж он был, дед, что всегда выбирал для себя самые лучшие. Сложив веером зеленовато-желтые пластинки, будто картежный шулер, стоял он у открытой двери и перебирал их, как перышки редкостной птицы, разглядывал на свет, качал головой и строптиво морщил лоб, пока не находил ту самую подходящую для данной бочки. Тридцать лет выдерживал он в этой бочке вавржинецкое, и всегда оно таяло на языке и расцветало букетом. И сейчас он не мог позволить себе испортить его по небрежности. Дед еще раз испытующе оглядел кусочек серы, понюхал, отломил уголок, размял пальцами, хотел нюхнуть еще раз, но перестарался, и тонкая серная пыль проникла в нос. Он втянул ее, как благородный господин втягивает нюхательный табак, и после этого чихал и рычал до того, что искры летели из глаз.