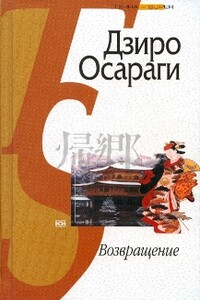Малая проза | страница 66
— Значит, мы в расчете? — сказал дядя и выложил деньги на стол.
Она, скорее всего, ничего не поняла, вынула из кармана юбки маленький кошелечек, свернула бумажки и засунула их в него; но так как ей пришлось свернуть их в несколько раз, то, хоть их и было очень немного, комочек получился довольно толстый и уместился там еле–еле; раздувшийся кошелек оттопыривался у нее на боку под юбкой, как желвак.
Теперь у фройляйн был еще только один вопрос:
— Когда мне уходить?
— Н-да, — сказал дядя, — ну, несколько дней у вас еще займут всякие формальности; до тех пор вы, конечно, можете остаться. Но можете уйти и раньше — когда захотите: ваши услуги нам ведь больше не нужны!
— Спасибо, — сказала фройляйн и ушла в свою комнатку.
Тем временем другие приступили к распределению мелкой утвари. Они были похожи на волков, пожирающих убитого собрата, и уже успели порядком друг друга взвинтить, когда он спросил, не дать ли фройляйн по крайней мере какой–нибудь ценный подарок, раз денег ей досталось так мало.
— Мы уже ей выделили бабушкин большой молитвенник.
— Да, но ей наверняка было бы приятнее получить что–нибудь более существенное; что вы собираетесь делать вот с этим, например? — Он взял в руки коричневый меховой воротник, лежавший на столе.
— Это для Эмми. — Эмми была его кузина. — Да и как можно — это же норка!
Он рассмеялся.
— Кто сказал, что бедным девушкам непременно надо дарить только что–нибудь душеспасительное? Вы хотите прослыть скупердяями?
— Ну знаешь, не вмешивайся не в свое дело, — заявила мать, но, сознавая, видимо, что он не так уж неправ, продолжала: — Ты же этого не понимаешь; не обделят ее, не бойся! — И она широким жестом раздраженно отложила для фройляйн несколько носовых платков, рубашек и панталон умершей, а также черное платье из совсем еще нового сукна. — Ну вот этого, надеюсь, хватит? Не так уж твоя фройляйн и старалась, и сентиментальной ее тоже не назовешь: ни после смерти бабушки, ни во время похорон она не выдавила из себя ни слезинки! Так что, пожалуйста, успокойся.
— Некоторые люди просто не так легко плачут; это же не аргумент, ответил сын не потому, что считал важным это сказать, а потому, что ему нравилась собственная находчивость.
— Ну хватит, — сказала мать. — Неужели ты не чувствуешь, что твои замечания неуместны?
Он проглотил этот выговор не из робости, а потому, что вдруг страшно обрадовался, что Тонка не плакала. Родственники были возбуждены, перебивали друг друга, но он заметил, что за интересами своими они следили неукоснительно. Говорили они неприятными голосами, но очень бойко, не стесняясь поднятого гама, и в конце концов каждый получил, что хотел. Умение говорить было не средством выражения мысли, а капиталом, украшением, выставленным напоказ; стоя перед столом с подарками, он вспомнил стихи: "Ему с крылатою мечтою послал дар песней Аполлон" — и впервые понял, что это действительно дар. Какой бессловесной была Тонка! Не умела ни плакать, ни говорить. Но если что–то не может выразить себя в слове и остается невысказанным, то, беззвучно канув в гомоне человеческом, оставляет ли оно хоть какую–нибудь зарубку по себе, хоть малую царапину на скрижалях бытия? Такой поступок, такой человек, такая средь ясного солнечного дня одиноко упавшая с неба снежинка — реальность она или воображение, хороша, безлика или плоха? Здесь, как видно, наши понятия подходят к той грани, где они теряют всякую опору. И он молча вышел из комнаты, чтобы сказать Тонке, что возьмет на себя заботу об ее судьбе.