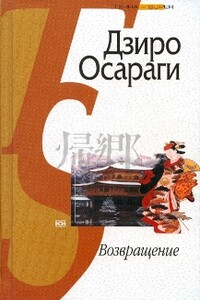Малая проза | страница 28
Спору нет - намечается мало обнадеживающий итог. Но надо оценить и ту решительность, с которой Музиль показывает крах индивидуалистических утопий. Причем! он говорит не просто об "индивидуализме", а и - более прямо - об "асоциальности", "антисоциальности". В бунтарстве Ульриха и Агаты он постоянно подчеркивает эту его внутреннюю основу как в конечном счете несостоятельную. Размышляя над окончанием романа, Музиль записывает: "История Агаты и Ульриха - иронический роман воспитания? Во всяком случае, ироническое изображение глубочайшей моральной проблемы; ирония здесь - юмор висельника... Вот в чем ирония: человек, склоняющийся к богу, - это человек с недостатком социального чувства". Как очевиден здесь личный, писательский - и глубоко трагический - аспект проблемы! Ибо что иное означает квалификация своей художественной позиции (иронии) как "юмора висельника"?
Среди набросков Музиля к концовке романа есть и еще одна утопия писатель называет ее "утопией индуктивного мышления, или социальных данностей". Она обрывочна, лишь тезисно намечена; но в связи с ней Музиль записывает знаменательные формулы: "Индивидуализм идет к концу... Система Ульриха в конце дезавуирована, но и система мира тоже... Ульрих в конце жаждет общности, при отрицании существующих возможностей, - индивидуалист, ощущающий собственную уязвимость".
В этом, пожалуй, главная дилемма Музиля - человека, остро осознающего исчерпанность индивидуализма - но и бунтующего против всей "системы мира", то есть снова оказывающегося с миром один на один; жаждущего общности - но и не готового к ней.
Впрочем, для завершения разговора о Музиле, о смысле и уроках его писательского пути можно, очевидно, не умаляя всей весомости этих антиномий, поменять их местами. Не только индивидуалист, но и "индивидуалист, ощущающий собственную уязвимость"; во всяком случае, безжалостный диагност недугов буржуазного сознания и мира; и еще - один из самых упорных фанатиков утопии, мечты о цельном человеке, чья душа была бы раскрыта навстречу достойному миру и достойным людям.
Три женщины
ГРИДЖИЯ
В жизни наступает однажды срок, когда она резко замедляет ход, будто не решается идти дальше или хочет переменить направление. Может статься, в такую пору человек легче подвержен несчастью.
У Гомо разболелся маленький сын; тянулось это уже год, без видимых улучшений, хотя и не грозило особой опасностью; врач настаивал на длительном курортном лечении, а Гомо не мог решиться уехать с семьей. Ему казалось, что такое путешествие слишком надолго оторвет его от него самого, от его книг, планов, от всей его жизни. Он воспринимал это свое нежелание как признак крайней самовлюбленности, но, может быть, здесь выразилось скорее некое самоотрешение, — ведь с тех пор он ни разу на единый даже день не разлучался с женой; он очень любил ее, любил и сейчас, но с появлением ребенка вдруг оказалось, что эта любовь способна дать трещину — как камень, который просочившаяся в него вода расщепляет все упорней. Этому новому свойству, геологи называют его _отдельностью_, — Гомо не переставал удивляться, тем более что вовсе не ощущал, чтобы самой его любви за минувшее время сколько–нибудь убыло, и в продолжение всех бесконечно затянувшихся сборов семейства к отъезду он тщетно пытался представить себе, как проведет один наступающее лето. Но он испытывал решительное отвращение ко всякого рода морским и горным курортам. Он остался один и назавтра получил письмо, в котором ему предлагали стать компаньоном общества по разработке старых венецианских золотых рудников в Ферзенской долине. Письмо было от некоего господина Моцарта Амадео Хоффинготта, с которым он познакомился однажды в поездке и был дружен в течение нескольких дней.