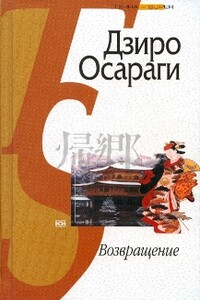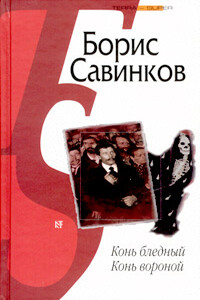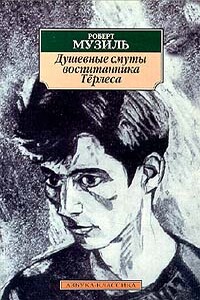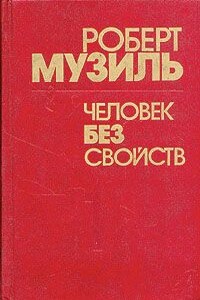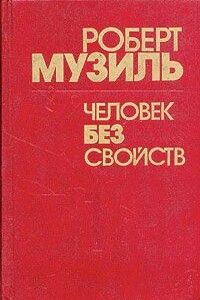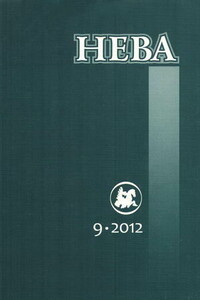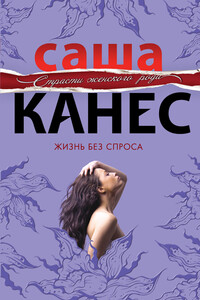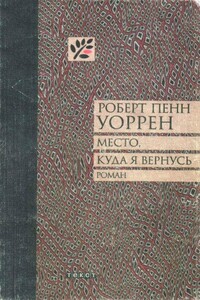Малая проза | страница 12
Музиль говорит не "иррациональной", а именно "нерациоидной". Это для него разные вещи. Иррациональное - это то, что непостигаемо разумом, и Музиль этого слова старается избегать; а вот "нерациоидное" - это то, что не входит в сферу разума и его схематизирующей логики, но тем не менее доступно постижению и, во всяком случае, поэтическому изображению, ибо это "нерациоидное" и есть, по Музилю, прерогатива и собственная сфера поэзии, в отличие от сферы "рациоидной", то есть логического объяснения мира.
В "Терлесе" притча о корне из минус единицы завершается следующей тирадой героя: "Когда я мучаюсь математикой, я ищу не что-то сверхъестественное, а как раз естественное, понимаешь? Не что-то вне меня в себе ищу, в себе! Что-то естественное! Только вот понять его не могу!"
То, к познанию чего здесь пробивается Терлес, - "нерациоидное" в собственной душе, - это, конечно, бессознательное, мыслящееся писателем как еще не познанная психическая реальность. В последующем своем творчестве Музиль постоянно будет показывать, как определенные внешние явления стимулируют всплеск "нерациоидного" в человеке. И вот здесь порою граница между "нерациоидным" и иррациональным в обычном понимании будет становиться крайне зыбкой. Черный дрозд в одноименной новелле воспринимается рассказчиком как душа и голос покойной матери; судьба кошечки в новелле "Португалка" сопряжена с судьбой героев поистине сверхъестественным, мистическим образом. Сама апелляция Музиля к мистическим учениям (Эккарта, Сведенборга) в "Человеке без свойств" свидетельствует о том, что писатель склонен был включать в сферу "нерациоидного" вообще все, что лежит за пределами рационального познания, и, таким образом, не просто оставлять в стороне сферу собственного иррационального, но как бы упразднять это понятие вообще. В самом деле, если приведенные примеры не говорят о попытке иррационального опыта, то это понятие и впрямь утрачивает смысл.
Но такое "затуманивание" понятий характерно для тех случаев, когда речь идет о дорогих сердцу писателя вещах - в частности, о всем комплексе "иного состояния". Рационалист Музиль не хотел допускать иррациональное в эту область - и прежде всего потому, что в иррационализме как таковом он все более ощущал серьезную опасность. Не случайно при характеристике националистического кружка юнцов в "Человеке без свойств" - кружка, по сути, предфашистского - он говорит об "иррациональном движении", основа которого "мистицизм в современном обличье". Вот тут и термин понадобился - причем контекст не оставляет сомнения в его негативной окраске. В положительных же построениях с "нерациоидным" Музиль как бы непроизвольно подходит к грани иррационального, влекомый той же инерцией чистоты эксперимента. И эта близость тогда его же самого настораживает, как еще одна, внутренняя угроза его утопии.