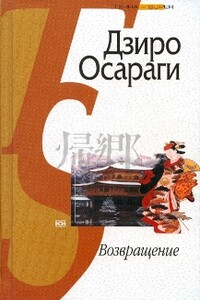Малая проза | страница 110
С каждой подробностью, какую он вспомнил, в нем, наряду со стыдом, вырастала и цепь гадких мыслей. Она началась, когда Байнеберг сделал то пояснение к речам Божены, после которого Тёрлес покраснел.
Тогда он вдруг невольно подумал о собственной матери, и это засело, это ему не удавалось стряхнуть. Это только промелькнуло у него на границе сознания… с быстротой молнии, в смутной дали… на краю… мимолетно… Это и мыслью-то назвать нельзя было. И тут же вереницей побежали вопросы, которые должны были это прикрыть: «С какой стати эта Божена ставит свою низкую личность рядом с личностью моей матери? С какой стати проталкивается к ней в тесноте одной и той же мысли? Почему не делает земного поклона, раз уж ей нужно о ней говорить? Почему нет ничего, что как пропасть выразило бы отсутствие тут какой бы то ни было общности? Ведь как же так? Эта женщина для меня сгусток всяческой похоти; а моя мать — существо, которое до сих пор проходило через мою жизнь в безоблачной дали, ясно и без снижений, как небесное тело, по ту сторону всякого вожделения…»
Но все эти вопросы не были сутью дела, не затрагивали ее. Они были чем-то вторичным; чем-то, что пришло Тёрлесу на ум лишь впоследствии. Они потому и множились, что ни один не попадал в точку. Они были лишь увертками, парафразами того факта, что неосознанно, неожиданно, инстинктивно появилась некая психологическая связь, которая еще до того, как они возникли, ответила на них в недобром смысле. Тёрлес пожирал глазами Божену и при этом не мог забыть свою мать; через него проходила цепь соединявшей обеих связи. Все остальное было лишь барахтаньем в этом сплетении образов. Их сплетенность была единственным фактом. Но из-за тщетности попыток сбросить с себя его гнет факт этот приобретал страшное, неясное значение, которое сопровождало всяческие усилия словно бы коварной усмешкой.
Тёрлес огляделся в комнате, чтобы освободиться от этого. Но все уже приняло один этот смысл. Железная печурка с пятнами ржавчины сверху, кровать с шаткими столбиками и крашеной спинкой, с которой во многих местах облупилась краска, грязные постельные принадлежности, проглядывавшие сквозь дыры ветхого покрывала; Божена, ее рубашка, сползшая с одного плеча, пошлый, крикливо-красный цвет ее юбки, ее заливистый смех во весь рот; наконец, Байнеберг, чье поведение по сравнению с обычным казалось ему поведением какого-то беспутного священника, который, сбесившись, вплетает двусмысленности в строгие формулы молитвы… Все это толкало в одну сторону, теснило ее и насильно сворачивало его мысли все назад и назад.