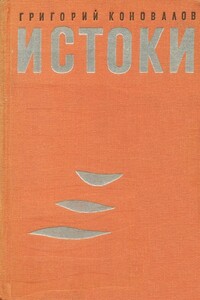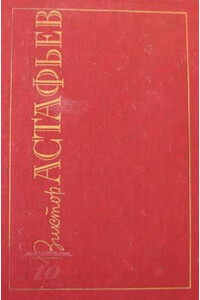Благодарение. Предел | страница 3
Пока Булыгин, теряясь в догадках, зачем он нужен Серафиме, разглядывал морские раковины и книги в небольшой комнате, хозяйка за ширмой переоделась в светло-розовое кимоно, принесла из кухни и поставила на инкрустированный столик японские чашечки с чаем.
Она признавалась: сама искала этой неминучей встречи с лучшим старшим другом своего мужа; надо решить очень важное сейчас же, иначе будет поздно. «Мы нуждаемся друг в друге», — уверенно сказала она.
— Я иду в заграничный рейс… с одним человеком, — с такой открытостью шла навстречу беде, что Булыгин сначала заподозрил хитрость или отчаянную глупость, а потом смутился ее беззащитности, добровольной подсудности перед ним. — Со Светаевым иду… С доктором…
— Опасный рейс.
— Немца нет в Тихом океане… да и подлодки конвоируют, слыхала я… Да и не боюсь я за свою жизнь… Говори откровенно, или расстаемся сейчас же.
Он говорил, сбиваясь и путаясь, что лишь при одной мысли о ее разрыве с Истягиным ему так плохо, будто покидает Серафима не Антона, а его, Макса Булыгина. О, если бы его, он все бы простил, нельзя не простить такой прекрасной… Но воображаемое прощение разжигало в нем не испытанную доселе ревность, опутывало тенетами муки, и они все глубже врезались, вроде бы врастая в душу до скончания жизни.
Серафима, сморгнув слезы, с ожесточенностью говорила об Истягине: всю жизнь живет выдумкой. Сошлась с ним по сильному влечению… и, кажется, по чувству мести неизвестно за что. Но очень хотелось наказать этого человека… А себя сильнее наказала. Ну, если трезво-то взглянуть, что же особенное у нас с ним? Даже не были в загсе. Другая бы поминай как звали. А я дура, что ли… Почему в долгу перед ним и почему долг все растет и тяжелеет? Того и гляди ноги подкосятся.
Она вскочила, заметалась по комнате, прекрасная в своем смятении и гневе. Не хочу, чтобы жил он со мной по тому же чувству долга, вины и мести! Потому и иду в рейс… а все-таки тяжко столкнуть в море грудного ребенка, это Истягина Антошку. Максим, ты друг Истягина, любишь его крепкой братской любовью… не то что моя, бабья… Первым увидишь его, правду открой. Это просьба гадкая, но что же делать, Макс?
— Да вы сами, Серафима Максимовна, все расскажете ему, не утаите…
— Не поверит Истягин словам, ему фактуру давай… Вот и подошла я, Макс, к самому краю, прыгать, будь что будет… Прошу тебя о невероятном: брось на чашу весов весь свой личный авторитет, скажи Истягину, я, мол, люблю ее и она, мол, любит меня… — Глаза ее были близко от глаз Булыгина, и хоть мимолетен был дико откровенный и застенчивый взгляд этот и она вдруг, как бы опомнившись, тотчас же с трезвой виноватостью улыбнулась, Макс потерялся от ее проговорок, раскаяний в откровенности — начала отрабатывать назад, мол, куда это ее занесло?