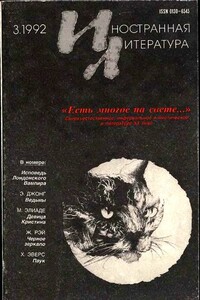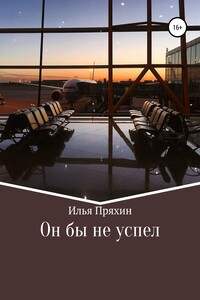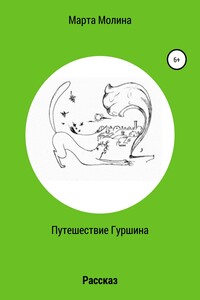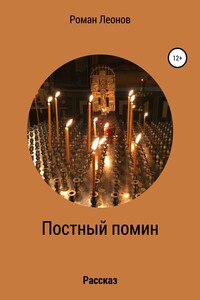Лисица на чердаке. Деревянная пастушка | страница 63
Однако есть основание считать, что люди не столько «притворялись», сколько им казалось, как мы уже говорили, будто они грезят, ибо притворство не было намеренным: людям вскоре предстояло убедиться, что эта «греза» вполне реальна и необорима, как кошмар малютки Полли. И тогда, если их состояние было подобно грезам наяву, то не была ли эта «пригрезившаяся» им война порождена, хотя бы отчасти, каким-то глубоким душевным переворотом, подобным тому, который, как у Полли, порождает необоримые фрейдистские кошмары, — переворотом, изменяющим до неузнаваемости привычные предметы и людей, как в снах? Переворотом, происходящим в самых глубинах человеческого сознания, как в огнедышащем чреве земли, когда оно внезапно изрыгает раскаленную лаву на зеленые луга?
Так оно могло быть, если современный человек пытался закрывать глаза (а он, возможно, это и делал) на то, что, по-видимому, искони определяет судьбы людские.
В сознании первобытного человека не существовало несокрушимого барьера, прочно отъединявшего его одинокое, постигающее мир «я» от окружающего: он ощущал свое соприкосновение с неизведанными сферами бытия — взаимосвязь познающего с познаваемым. Стихийно — как птицы, как звери — он принимает свое единство с частью окружающей его природы, и потребность обособления своего «я» едва ли возникает в нем. Однако одновременно с этим он знает, что это единение имеет свои пределы в пространстве, более того, единение с частью окружающей среды уже само по себе противопоставляет его всему остальному миру; само его сродство с «этим» предполагает некоторую степень враждебности к «тому» и враждебность, таящуюся в «том». И тем не менее вся история долгого и трудного пути цивилизованного человека — от всех табу Эдема до психиатрической клиники — есть не что иное, как история его усилий по велению эмерджентного разума либо ограничить познание самого себя рамками декартовского мыслящего «я», либо, наоборот, отвергая этот непререкаемый целенаправленный ориентир, бесконечно распространить себя вовне — посягнуть на осознание каждого индивидуума как части некоего всеобщего «мы», не оставляя места ни для каких «они».
Личность не укладывается полностью в рамки «я»: любой современный язык и сейчас еще свидетельствует о непреложности этой изначальной истины. Ибо чем же еще, как не подтверждением двух форм ухода от ограниченности «я», является существование двух слов — «мы» и «мое» (наиболее весомых слов нашего языка и наиболее древних)? Это в полном смысле слова «личные» местоимения, ибо с помощью их наша «личность» вбирает в себя все остальные. Более того, само понятие «мы» утверждает наличие в нашем словаре понятия «они»: «meum» и «alienum»