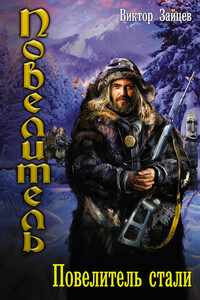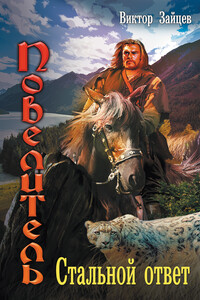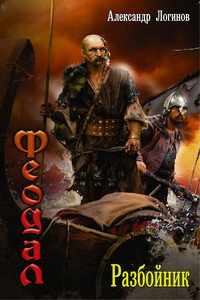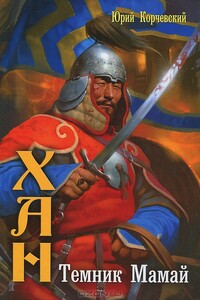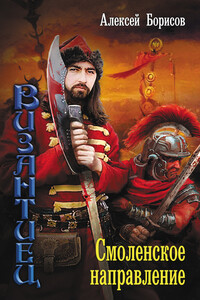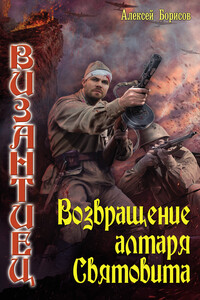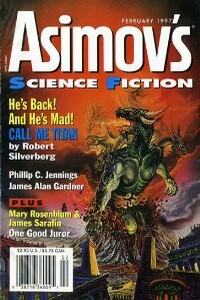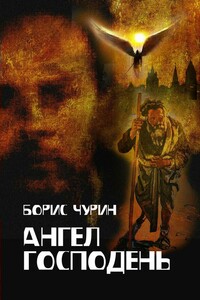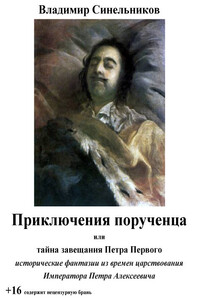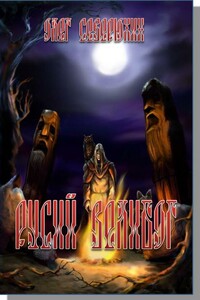Ижорский гамбит | страница 93
Юрьевский монастырь просто очаровал. Несмотря на всю мою любовь к деревянному зодчеству, я остаюсь приверженцем камня. То ли вековая надёжность, то ли реактивность детской памяти, когда любые увиденные стены исключительно из мшанкового известняка или ракушечника из Сусанино, то ли ещё что-то. Не берусь судить о достоинствах и недостатках материалов, каждый выбирает сам, как говорится по вкусу и цвету. Так вот, особую выразительность каменным зданиям придавал не естественный цвет стен, сложенных из серого и голубовато-розового отёсанного известняка, а грубость отделки. Георгиевская же церковь, вообще, если смотреть издалека, то казалось, что слеплена руками. И это, поверьте, здорово, словно сравниваешь фотографию и выполненную мастихином картину художника, где, безусловно, предпочтение отдаётся последнему. И самое главное – тишина. Людям дают подумать о Творце, помолиться и ощутить себя единым целым с природой.
Первые полдня ушли на осмотр красот, вторые – на знакомство с настоятелем Арсением и обширной братией. Гаврила Алексич, по моей просьбе, упросил двоюродного брата дать мне в провожатые монаха. Тот показал каждый закуток, рассказывая истории, связанные с ними, а также поведал о традициях, которым уже более ста лет. Одна из них перекликается со старинным греческим обрядом – бить в блюдо во время общей трапезы. На край стола ставилось блюдо с пищей, старший из братии ударял в него большой ложкой, чтение молитв прекращалось, все вставали и благословляли пищу, а затем начинали трапезу вслед за игуменом. В наше время для того, чтобы привлечь внимание, за столом стучат ножиком по ножке бокала. Оказывается вот откуда всё пошло.
На третий день моего пребывания в монастырь съехались «кормильцы»: представители сёл и деревень, закреплённых за монастырём, которым сдавали землю в аренду. Группа была разношёрстна. Как по возрасту: начиная от седого старичка, неопределённого, глубоко за пенсионный срок и заканчивая пылким юношей, дай бог, переступившем шестнадцатилетний рубеж. Так и по достатку: начиная от одетых в явно заштопанную и залатанную одежду, заканчивая витой гривной на шее и сапог из дорогой кожи. Тем не менее, держались они все вместе, не высказывая пренебрежения друг другом. Иными словами – дружный коллектив. Побеседовав с несколькими из них, заинтересовался экономической составляющей монастыря. Вообще бюджет столь уважаемого церковного заведения был весьма любопытен. Земельная рента приносила обители всего десятую часть дохода, но арендаторы, коих все называли «кормильцы», соответствовали столь высокому званию в более широком смысле. Именно они кормили не только прожорливых божьих слуг, но и население многих городов. Так что хоть и мал золотник, но монастырю был дорог. Помимо этого существовали ещё несколько источников обогащения, такой, как вклад «по душе», когда прихожане делали дарения, дабы обеспечить молитвы монастырских монахов по душе умершего вкладчика и его родственников. И разумеется, вклад «для пострижения». Богоугодным делом считалось отречься от мира через пострижение в монахи даже за несколько минут до смерти. Треть дохода приносила торговля, освобождённая от всех пошлин. Остальную доходную часть добирали всевозможными услугами. Пока я это всё выяснял, к нам подошёл монах и пригласил в специально подготовленную комнату для разговоров. Настоятель монастыря сидел с нами за общим столом, а чуть в стороне сутулый писарь вёл бухгалтерию. Беседовать долго не пришлось, рабочая группа монахов всё подсчитала заранее, и оставалось только озвучить на словах решение настоятеля. В итоге, после расчёта с ладожанами и монастырём сельскохозяйственной техники у нас не осталось вовсе. Монах с потрясающей точностью назвал количество общин, равное оставшимся плугам с боронами. Как это получилось, не знал даже и Гаврила Алексич, когда на мой вопрос о возможном сговоре просто развёл руками. Мол, лукавить в подобных местах православный человек не может.