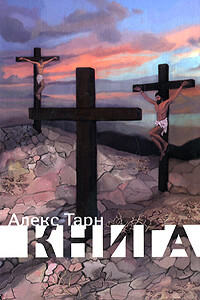Томик в мягкой обложке | страница 9
Артамонов рассмеялся.
– Ну, Лева, эк ты его растоптал… Человеку как-никак Нобелевку дали. Значит, были причины.
Мигулев пожал плечами:
– Верно, дали. И причины, наверно, были. Только вот мне они не видны. Может, вы разберете, Алексей Алексеевич? Хотите, дам почитать? Или даже подарю – мне это великое творение все равно девать некуда. В общежитии такую книгу на полку не поставишь, да и не нужна она мне на полке.
– Спасибо, Лева, но я уже прочитал.
– Прочитали? И что?
Артамонов помолчал, задумчиво глядя на стол с разложенными там бумагами и фотографиями. Юрий Андреевич, затаив дыхание, ждал его ответа. Он слышал весь разговор из сумки, которая висела здесь же, на спинке стула, и жестокие слова Мигулева задели его намного сильней, чем ежедневные потоки радиогрязи. Своему первому читателю он показался скучным – что, как выяснилось теперь, было далеко не самым обидным. Безвкусица, пошлость, банальность… – это уже звучало смертным приговором. Неужели доцент согласится? По возрасту он казался ровесником Юрия Андреевича и, значит, видел в жизни примерно то же, что и тот: почивший в сытости век больших надежд, Первую мировую войну, революцию, Гражданскую, двадцатые годы… Уж такой-то человек должен кое-что понимать – в отличие от недалекого Восьмеркина или озлобленного жизненными невзгодами Мигулева.
– Думаю, ты прав: роман слабый, – проговорил наконец Артамонов. – Проза хороша, словом он владеет мастерски, видно, что поэт написал. Но для романной формы этого маловато. Должна быть жизнь, объем, натуральное дыхание, а там в этом смысле плоско, как на плакате.
Сердце Юрия Андреевича упало. Это он-то плоский, плакатный, неживой?
– Но иначе, видимо, и быть не могло, – развел руками доцент. – Потому как евреем написано.
Мигулев удивленно поднял брови.
– Что вы имеете в виду, Алексей Алексеевич? Что, еврей не может писать про русских?
– Может, конечно, может. Но правдиво при этом получится, только в одном случае: если он пишет с позиции еврея. А тут автор пытается писать о русских как бы изнутри, как бы с точки зрения воображенного им русского писателя.
– Не уверен, что понял, – покачал головой Мигулев.
– Смотри, Лева, – сказал Артамонов. – Возьмем ситуацию наоборот. Как пишут о евреях русские? Гоголь, Пушкин, Достоевский, Тургенев… Пишут отстраненно: когда грубо, когда насмешливо, когда с презрением, когда с жалостью, когда с отвращением. Но всегда именно так, глядя со стороны. Это и есть правда, потому что евреи на Руси – посторонние люди, чужие, непонятные.