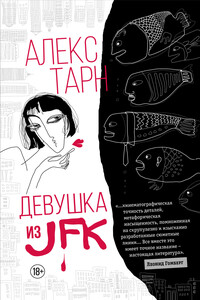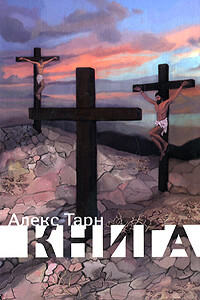Томик в мягкой обложке | страница 7
И, что самое обидное, бородатый Восьмеркин казался поначалу таким своим, таким близким Юрию Андреевичу. Ученый-аспирант, то есть заведомый интеллигент. Грубоватая повадка, низкосортные папиросы, синий халат, матерщина, то есть явная связь с простым народом. Происхождение из российской глубинки, то есть из мест, не столь уж удаленных от Юрятина… Все сходится! Почему же скука?! Да еще и такая, при которой отбрасывают книгу, не дочитав?
Зато Мигулев с его каторжными замашками оказался довольно внимательным читателем. В отличие от Восьмеркина, легкомысленно пропускавшего абзацы, а иногда и целые страницы текста, он не испытывал затруднений даже в тех местах, которые выглядели скучноватыми и с точки зрения самого Юрия Андреевича. Вот только дружба с бывшим лагерником никак не завязывалась, а Юрию Андреевичу хотелось именно этого – теплых человеческих отношений, взаимопонимания, поддержки… Более того, если судить по хмурому выражению лица и недоуменному, а часто и презрительному фырканью, здесь скорее имела место откровенная антипатия, в лучшем случае – неприязненное равнодушие.
Книгу Мигулев таскал с собой, в комнате не оставлял, резонно опасаясь чужих глаз – на то ведь оно и общежитие, что двери тут всегда нараспашку. Наученный горьким опытом, он вообще мало кому доверял не только в университетской среде, кишащей стукливыми дятлами, но и в принципе, по жизни. Одним из этих немногих был его старый научный руководитель Артамонов, тоже посидевший, хотя и коротко, в первой соловецкой волне конца двадцатых годов. Они успели съездить вместе в экспедицию еще до войны, и это давнее знакомство связывало их, как мост, протянувшийся над черной, на полтора десятилетия, дырой мигулевской отсидки.
Нельзя сказать, что Юрию Андреевичу нравилась свалившаяся на него кочевая жизнь. Назначение книги – пребывать в руках читателя, на его столе, а в остальное время – на полке, в покое и ожидании. А непрерывная тряска в сумках, портфелях и карманах подобает разве что кошельку с медяками. Но и в комнате, где постоянно бубнила радиоточка, он чувствовал себя не лучше. Уж больно часто это неумолкающее радио говорило о нем – чрезвычайно скромном, в общем-то, человеке, никогда не любившем находиться в центре внимания.
За что его кляли и ругали с такой неистовой силой? Чем он провинился? Кого обидел он, тихий интеллигент, принципиально старавшийся жить по-христиански, то есть так, чтобы не обидеть никого? Вот и сейчас… – другой на его месте непременно бы оскорбился, стал протестовать, хлопать дверьми, стучать кулаком по столу… А он? Разве он оскорбляется, хлопает, стучит? Нет. Он привычно терпит, беззвучно глотает боль, безропотно сносит неправедные наветы. Молчит, как Тот, из стихов в конце томика, отданный на суд подонкам и юлящим, как лиса, фарисеям. Ведь если даже Тот отказался без противоборства, то осмелится ли поднимать голос протеста он, Юрий Андреевич?