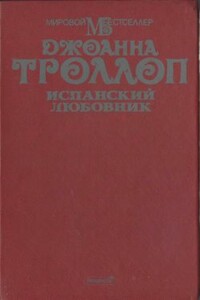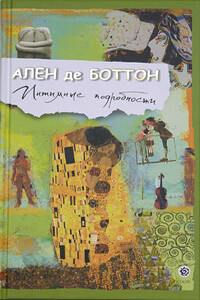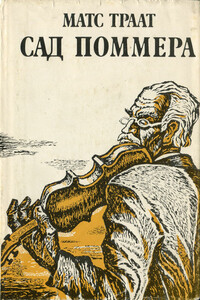Курс любви | страница 41
Странно, но наше сознание не всегда хорошо распознает, в каком времени оно находится. Оно уносится от реалий слишком легко, как жертва ограбления, которая держит револьвер под подушкой и пробуждается от любого шороха.
Еще хуже для возлюбленных, остающихся поблизости, то, что людям проецирующим не так-то легко понять, зачем они это делают, не говоря уж о том, чтобы спокойно объяснить, что им надо: они просто чувствуют, что их реакция полностью соответствует случаю. Партнер же, с другой стороны, может прийти к иному менее лестному выводу: он явно странный – и, возможно, даже слегка безумный.
Отец Кирстен бросил ее, когда ей было семь. Он ушел из дома без предупреждения или объяснения причин. В тот самый день, прежде чем уйти, он изображает верблюда, играя на полу гостиной, и носит ее на спине вокруг дивана и кресел. Перед сном он читает ей из книги немецких народных сказок всякие истории про одиноких детей и злобных мачех, про чудеса и утраты. Говорит ей, что в книжке только такие сказки. И потом он исчезает. Отреагировать можно было бы по-разному. Реакция Кирстен – бесчувствие. Другой она позволить не может. Все вокруг: учителя, две ее тетки, психолог, с которым они встречаются время от времени, – твердят, что она держится молодцом. Учеба в школе и вправду пошла лучше. Но внутри себя она совсем не была молодцом: чтобы плакать, нужны хоть какие-то силы, уверенность в том, что в конце концов удастся слезы остановить. Она не может позволить себе чувствовать даже легкую печаль. Стоит чуть расслабиться, Кирстен распадется на кусочки и никогда не узнает, как собрать себя заново. Предотвращая беду, она до бесчувствия прижигает свои раны – насколько у нее, у семилетней, хватает умения. Но время бежит. Прошло много лет, она уже может любить (на свой собственный лад), но вот чего она на самом деле позволить себе не может, так это ужасно скучать по кому бы то ни было, даже по тому, кто в паре часов езды и точно возвратится домой через несколько дней поездом в восемнадцать часов двадцать две минуты. Только, конечно же, она не может объяснить и даже понять свое поведение. Дома оно не вызывает радости. В идеале ей бы иметь у себя в услужении ангела-хранителя, могущего волшебством приостановить действие, как только Рабих станет раздражаться, с тем чтобы умыкнуть мужа из его бюджетной гостиницы и перенести его по воздуху, сквозь плотные облака нижних слоев атмосферы в Инвернесс времен четвертьвековой давности, где он мог бы увидеть через окно маленького домика узкую спаленку, в которой маленькая девочка в пижаме с медведями сидит за своим столом и с методичной аккуратностью закрашивает квадратики на большом листе бумаги, стараясь сохранить здравомыслие, ибо душа ее пуста от печали, слишком непомерной, чтобы ее признать. Имей Рабих возможность увидеть эту картину стоического долготерпения Кирстен, сочувствие пришло б к нему само собой. Он уяснил бы трогательные причины ее сдержанности и незамедлительно подавил бы собственную обиду настолько, что обратился бы к ней с нежными уверениями и симпатией. Увы, нет никакого ангела на крыльях и, следовательно, никакого волнующего чувствительного рассказа, затеянного, чтобы осветить прошлое Кирстен. Только ее непритворная реакция – вот что достается Рабиху для того, чтобы попытаться извлечь из нее смысл – вызов, разжигающий в нем предсказуемо нестерпимое искушение осудить жену и обидеться.