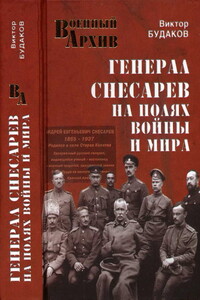Одинокое сердце поэта | страница 2
Но судьба, но рок, но жребий довлеют не только в поэтической строке, но и в земном, житейском шаге.
Пролог
Чем-то более древним, нежели эпохи матриархата и патриархата, невольно приходящие на историческую память, веет от этих слов. Какая-то глубинная, прадревняя предназначенность в этом — «вошло». Будто бы на незримой поверке испытывается судьба не одного человека, но судьбы народов, стран, быть может, цивилизаций.
«Пролог», открывающий посмертные сборники стихотворений Алексея Прасолова, путеводен в понимании природы его творчества: от дней Творения целен и одновременно расколот мир, в котором тепло и холод, трава и пепел, родина и вселенная, земля и небо, миг и вечность — странно соединенные: подчас родные, подчас враждебные; и свет, и тьма в них — часто попеременные.
Три строфы, всего двенадцать строк. Но как наполнены изначально сущностными словами-смыслами: «рождение», «мир», «жизнь», «мать», «отец», «письмена», «год», «родина»! Словно поэту, для того чтобы выразить самую суть бытия, свыше отпущено было пространство только этих трех строф.
Где же пролог «Пролога» — истоки и корневые начала прасоловского слова, строго запечатлевшего этот изначально двуустремленный мир в его двуединстве гармонии и хаоса, лада и разлада, идеально-возвышенного и обыденно-плотского, в его контрастах, изломах, безднах? Как поэт шел к своему слову, какие осваивал времена и пространства, помимо отведенных ему физических, столь недолгих, столь коротких? Следует ли здесь принимать как существенное часто поминаемое выражение Гете о том, что нельзя понять поэта, не побывав на его родине? Всегда ли неразделимы драма жизни и драма творчества? Каков союз точен? Биография и судьба? Или же биография, но судьба?
Родина Ивановка
Южный окрай Воронежской области. Степные суходольные места. Полынь и ковыль. Чреда зеленых, желтых и иных красок — холмистые поля. Летом — солнце и ветер, зимою — снег и ветер; пуржит, заметает проселки.
Не в одно десятилетие здешние, закаспийским палам подверженные, бедные, но и богатые земли осваивали выходцы с поднепровской окраины, казаки Острогожского полка.
В конце девятнадцатого века этими косогорами и логами со станции Ольгинская, теперь Митрофановка, на хутор Ржевск к другу своему и будущему душеприказчику Владимиру Черткову добирался создатель «Войны и мира».
А раньше? В былинные, старорусские дни? А в дни первоапостольские, евангельские? Ветхозаветные?