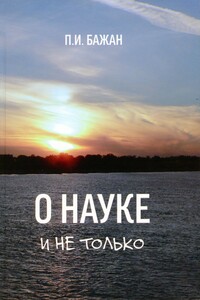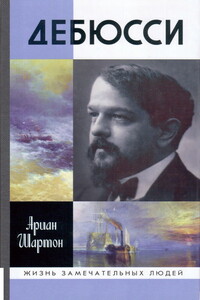Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Части первая — четвертая | страница 102
Отец более всего заботился о физическом образовании детей: ему желалось их всех видеть молодцами. Конечно, это весьма похвально, особливо в то время, когда родители не только высшего, но и среднего состояния думали отличиться от простонародья, воспитывая детей своих в совершенной неге, державши их вечно в тепле и не давая никакой свободы ни их мыслям, ни их движениям. Человек, однако же, не растение, и нужно приготовить его к перенесению непогод и нравственной атмосферы. Об этом, кажется, никто не думал в том доме, где я находился. Молодые князья были искусны во всех гимнастических упражнениях: они шибко бегали, высоко лазили, славно катались на коньках, мастерски перепрыгивали через рвы; смотря по возрасту, у каждого из них были разных величин свайки, и они тешились ими между собою или дворовыми людьми; зимою и летом каждое утро обливали их холодною водой. Развитие же их умственных способностей оставлено было на произвол судьбы; никаких наставлений они не получали, никаких правил об обязанностях человека им преподаваемо не было. Гувернер ими очень мало занимался и только изредка, как Онегина, слегка бранил. Дядьки говаривали: «Полноте, ваше сиятельство; ведь за вас на мне взыщут».
Что касается до наук, то, исключая гувернера, который учил их по-французски и знал хорошо правописание, несмотря на то что он был эмигрант, находился еще при них учитель математики.
Имея намерение их всех посвятить военной службе, отец чувствовал всю необходимость для них сей науки.
Будучи воспитан как благородное дитя, то есть ленивый телом и мало приученный к холоду, новая метода, которой и я должен был следовать, была мне вовсе не по вкусу. Делать было нечего, и я привык к ней. Здоровое и крепкое сложение, которое получил я от природы, могло бы со временем быть обессилено телесным бездействием, и я весьма благодарен дому Голицыных за сохранение многих физических способностей. Но как добро бывает редко без худа, то в сем же доме (с горестью должен в том признаться) в первый раз познакомился я с идеями порока и разврата. Опасность явилась с той стороны, где её менее ожидать было можно. Старший из моих маленьких товарищей, моложе меня, как сказал я выше, заговорил со мной таким языком, который сначала показался мне непонятен; я покраснел от стыда и ужаса, когда его понял, но вскоре потом начал слушать его с удовольствием.
Кто бы мог поверить? Другой соблазнитель мой был сам наш гувернёр, шевалье де-Ролен-де-Бельвиль, французский подполковник, человек лет сорока. Не слишком молодой, умный и весьма осторожный, сей повеса старался со всеми быть любезен и умел всем нравиться, старым и молодым, господам и даже слугам. Обхождение его со мною с самой первой минуты меня пленило. Я еще помнил строгую мораль, которую читал в глазах г. Мута; недавно расстался с брюзгливым Форсевилем, и вдруг нахожу наставника, который хочет уверить меня, что я уже не ребенок; а в отроческие лета кому не хотелось быть постарее! Он начал давать мне дружеские советы и одну только неловкость мою исправлять тонкими насмешками; я чувствовал себя совсем на свободе. Во время наших прогулок, которые начались с открывшейся весной, он часто забавлял меня остроумною болтовней; об отечестве своем говорил как все французы, без чувства, но с хвастовством, и с состраданием, более чем с презрением, о нашем варварстве. Мало-помалу приучил он меня видеть во Франции прекраснейшую из земель, вечно озаренную блеском солнца и ума, а в её жителях избранный народ, над всеми другими поставленный. Революционеры, новые Титаны по словам его, только временно овладели сим Олимпом, но, подобно им, будут низвергнуты в бездну. При слове религия он с улыбкой потуплял глаза, не позволяя себе однако же ничего против неё говорить; как средством, видно, по мнению его, пренебрегать ею было нельзя. Он познакомил меня с именами (не с сочинениями) Расина, Мольера и Буало, о которых я, к стыду моему, дотоле не слыхивал, и возбудил во мне желание их прочесть.