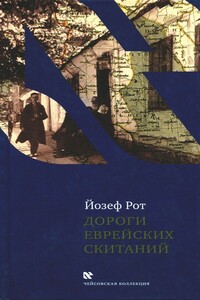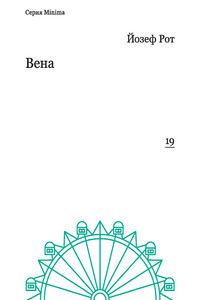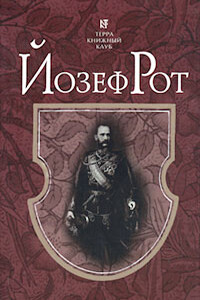Исповедь убийцы | страница 58
— Лакатос! — сказал я.
— Вот как! — отходя от окна, произнес Соловейчик.
Мы снова сидели напротив друг друга. Соловейчик бросил взгляд на свои бумаги и спросил:
— Давно вы знакомы с Лакатосом?
— Очень давно. Он вечно попадается мне на пути. И всегда в решающие часы моей жизни.
— Думаю, вы еще не раз его повстречаете, — сказал Соловейчик. — Я редко и с большой неохотой думаю о сверхъестественных явлениях. Но в связи с этим Лакатосом, который время от времени меня посещает, я не могу отделаться от некоторого суеверия!
Я молчал. Что я мог сказать? Мне стало совершенно ясно, что я попался. Чьим пленником я был? Соловейчика? Лютеции? Лакатоса?
После небольшой паузы Соловейчик сказал:
— Он предаст вас и, возможно, уничтожит.
Я принял у Соловейчика увесистый пакет с бумагами и собрался идти.
— До следующего четверга! — сказал Соловейчик.
— Если мне суждено будет вас снова увидеть, — сказал я, и мое сердце сжалось.
Когда я вышел на улицу, Лакатоса уже не было. Сколько я ни искал его, все без толку. Я боялся его, а потому искал с особым усердием. Но уже тогда я почувствовал, что его не найду. Да, я был в этом уверен.
Как можно найти черта? Он появляется и исчезает неожиданно, и он всегда где-то рядом.
С того самого момента я потерял покой. Не только из-за Лакатоса. Я чувствовал свою неуверенность. Кто такой Соловейчик, кто такая Лютеция, что такое Париж и кто такой я сам?
Более всего я сомневался не в чем-нибудь, а в себе! Кто распоряжается моими днями, ночами, моими поступками — я сам или чужая воля? Кто заставлял меня делать то, что я делал? Люблю ли я Лютецию? Или я всего лишь люблю мою страсть, а точнее — потребность этой страстью подтверждать мою так называемую человечность? Кем и чем, в сущности, я был — я, Голубчик? Если Лакатос здесь, то ясное дело, мне уже не быть Кропоткиным. Внезапно я понял, что уже не в состоянии оставаться ни Голубчиком, ни Кропоткиным. У Лютеции я проводил полдня или полночи. Я уже давно не слушал, что она мне говорила. Впрочем, говорила она о всякой чепухе. Я запоминал многие незнакомые мне прежде выражения. И вообще прогрессу во французском — произношению, новым фразам — я полностью был обязан ей. Ибо, несмотря на всю свою растерянность в те дни, я все же никогда не забывал данный мне Соловейчиком совет — стараться в совершенстве овладеть языками. Короче, через пару недель я уже прекрасно говорил по-французски. Дома я порой погружался в английские, немецкие, итальянские книги, они буквально оглушали меня, мне представлялось, что благодаря им я обретаю свое истинное существование. В гостиничном холле, к примеру, я читал английские газеты. И пока я их читал, я видел себя соплеменником седовласых английских полковников, которые, надев очки, сидят в креслах, я казался себе таким полковником из какой-нибудь колонии. Отчего бы мне было им не стать? Разве я Голубчик или Кропоткин? И кто же я вообще?