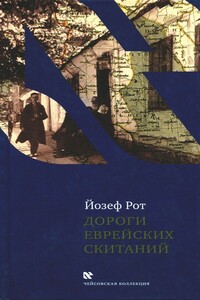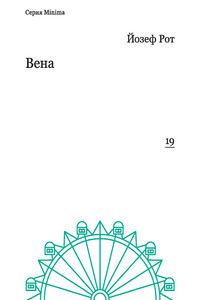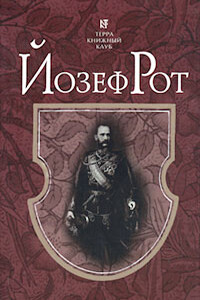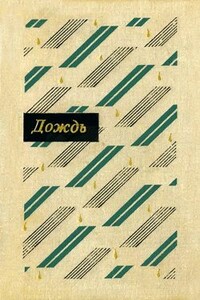Исповедь убийцы | страница 23
— Пожалуйста, заплатите пока. Мы потом рассчитаемся, — мимоходом произнес он.
Я полез в сумку за своим кошельком, открыл его и увидел, что вместо серебра он наполнен одними медяками. Я поискал, хорошо помня о двух десятирублевых монетах, которые там лежали, порылся еще какое-то время… Меня охватил ужас, на лбу выступил пот. Не было никаких сомнений — прошлой ночью меня обокрали. Тем временем Лакатос, складывая газету, сказал:
— Ну что, пошли?
Потом, посмотрев на меня, испуганно спросил:
— Что случилось?
— У меня больше нет денег, — прошептал я.
Он взял из моих рук кошелек, заглянул в него и сказал:
— Да, бабы!
Затем он достал из бумажника деньги, расплатился, взял меня за руку и начал:
— Ничего страшного, молодой человек, поверьте мне, ничего страшного. В беду мы не попадем ни в коем случае, у нас ведь в сумке имеется такое сокровище, за глаза стоящее не менее трехсот рублей. Мы сейчас кое к кому сходим, но потом, мой друг, вы сразу же отправитесь домой. На сей раз приключений достаточно!
Держась за руки, мы направились туда, куда обещал меня свести Лакатос.
Это был портовый квартал, где в маленьких ветхих домишках жили бедные евреи. Я думаю, это были самые бедные и, к слову сказать, также самые крепкие евреи на свете. Днем они работали в порту: как грузоподъемные краны, они нагружали и разгружали суда. А те, кто послабее, торговали фруктами, семечками, карманными часами, одеждой, ремонтировали сапоги и латали старые брюки — в общем, делали все, что полагается делать бедным евреям. Свою субботу они начинали праздновать в пятницу, с заходом солнца, и поэтому Лакатос сказал:
— Пошли быстрее. Сегодня пятница, и евреи скоро закончат со всеми делами.
Пока я шел туда рядом с Лакатосом, меня охватил сильный страх, мне показалось, будто табакерка, которую я собирался заложить, мне больше не принадлежит, и не Кропоткин мне ее подарил, а я ее украл. Однако я подавил в себе эти чувства и даже повеселел, словно уже забыл об украденных деньгах. Я смеялся над каждым рассказанным Лакатосом анекдотом, хотя совсем их не слушал. Каждый раз я ждал, когда он захихикает, соображал, что история подошла к концу, и после этого разражался смущенным и громким смехом. Я лишь догадывался, что анекдоты были то о женщинах, то о евреях, то об украинцах.
В конце концов, мы остановились перед покосившимся домишком одного часовщика. На доме не было никакой вывески, только по лежащим за окном колесикам, стрелкам и циферблатам можно было понять, что здесь живет часовщик. Им оказался маленький, тощий еврей с дрожащей соломенного цвета козлиной бородкой. Когда он поднялся, чтобы подойти к нам, я заметил, что он хромает. Это была почти такая же приплясывающая хромота, как у моего друга Лакатоса, только не такая аристократическая. Этот еврей походил на грустного, немного замученного ребенка, в глазах которого тлел красноватый огонь. Он взял в свои худые руки табакерку и, как бы взвесив ее, сказал: