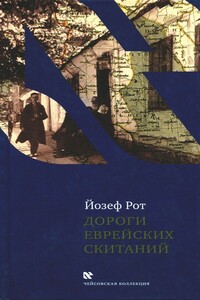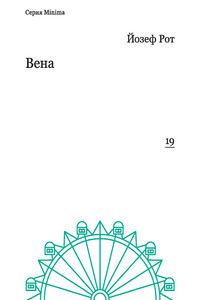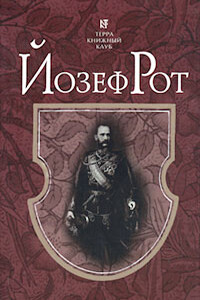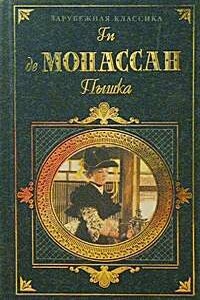Исповедь убийцы | страница 17
Я понял все очень хорошо, для меня его слова были медом, и я крепко, от всего сердца пожал под столом руку господина Лакатоса. Он жестом подозвал одну цыганку, потом вторую, третью. Может, их было еще больше. Во всяком случае, одной из них, той, что сидела с моей стороны, я достался полностью. Моя рука запуталась в ее подоле, как муха в сетке. Было жарко, сумбурно, безрассудно, и вместе с тем — это было блаженство.
Но я помню и тяжелое, как свинец, серое утро. Помню что-то мягкое и теплое в чужой постели, в чужой комнате. Помню резкий звук колокольчика в коридоре. И особенно — это тягостное, непристойное похмелье нового дня.
Проснулся я, когда солнце было уже высоко. Спустившись вниз, я узнал, что за комнату уже заплатили. От Лакатоса я получил только записку: «Мне надо срочно уехать, — писал мне он. — Идите сами. Желаю удачи!»
И вот, совсем один, я отправился к замку князя.
Одинокий, гордый, белый дом моего отца, князя Кропоткина, стоял на краю города. Несмотря на то что от морской отмели его отделяло широкое шоссе, мне показалось, что расположен он прямо на берегу. В то утро, когда я подошел к дому князя, море было таким синим и таким беспокойным, что мне почудилось, будто его ласковые волны то и дело накатывают на каменные ступени замка и лишь иногда отступают, чтобы освободить шоссе. В некотором отдалении от замка была установлена табличка с надписью, гласившей, что проезд всем экипажам запрещен. Было понятно, что князь бережет свой обособленный и надменный покой. Вблизи этой таблички стояли двое полицейских и наблюдали за мной. Я холодно, заносчиво взглянул на них, словно сам собирался им что-то приказать. Если бы они тогда спросили меня, что мне здесь надо, я бы ответил, что являюсь молодым князем Кропоткиным. Собственно говоря, я ждал именно этого вопроса. Но они, сопроводив меня взглядами, которые еще какое-то время я ощущал на своем затылке, дали мне пройти. Чем ближе я подходил к дому Кропоткина, тем больше волновался. Лакатос обещал меня сюда проводить, сейчас же в моем кармане была только его записка. Во мне снова живо звучали его слова: «не говори ему „ваша светлость“, говори „князь“. Он хитер, как лиса, и труслив, как заяц». Мои шаги становились все медленнее и тяжелее. Я вдруг почувствовал невыносимую жару этого подобравшегося к полудню дня. Голубое небо, неподвижное море и нещадное солнце. Несомненно, хотя это еще не было заметно, в воздухе притаилась гроза. На минуту я присел на обочину дороги, а когда встал, почувствовал еще большую усталость. Очень медленно, с пересохшим горлом и непослушными ногами, я доплелся до плоских, каменных, сверкающих, белых, как молоко, ступеней дома. И хотя солнце напоило их своим теплом, они посылали навстречу мне живительный поток прохлады. Перед коричневыми, двустворчатыми дверями стоял могучий швейцар. На нем был песочного цвета длинный китель, большой, черный, меховой (несмотря на жару) картуз, а в руке — скипетр с блестящим золотым набалдашником.