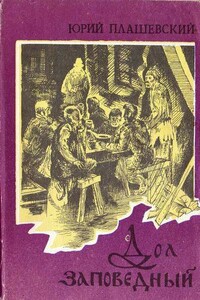Дол Заповедный | страница 12
— Есть дол! Потому и есть, что — тайна! — голос у мужика со злости охрип. — Есть! Кто хочет — увидит, найдет! Кто хочет! А не захочет — и не увидит!
Ворон слушал, и лицо его было смутно, как давеча, когда Пила и он быстро шли через поле по меже, и восходивший над черным лесом молодой, яркий месяц бросал на них первый свой свет.
— Горе вам, богатые, — вполголоса, быстро, будто отвечая кому-то, вдруг сказал он. — Горе вам, ибо получили вы уже утешение свое. И нечего ждать вам ни в сей жизни, ни в будущей.
От непонятных этих и не вязавшихся ни с чем слов стало жутко. Мужик передернул плечами.
— Ась? — переспросил он. — Ты чего говоришь, Ворон? Кому?
— Никому, — Ворон закрыл глаза, откинулся, взял белую руку женщины, прижался к ней щекой. — Никому.
— Не слушай его, Ефрем, не слушай, Ворон, — она гладила его по каштановым волосам, ласкала. — Не слушай. Нет никакого дола. А и есть, так чужой. Не наш. Постылый. Или Строгановых-купцов, или царских воевод. А нам уходить. К кзыл-башам уйдем. Вместе будем.
Мужик крякнул:
— Да. Такая полюбит, все отдашь. Все… Все по ее будет!
Ворон улыбнулся хмуро.
— Ты слышишь, что он говорит? Смеется. А ты? К кзыл-башам? Это за море, значит? В Персию? А хороша, наверно, Персия. Зимы нет. Все лето и лето. И все мне другое станет и другим явится. А этого уж ничего не будет. И обратится все это в сон. И во сне мне все это нахлынет. И Пила, и поляна, и свет сей желтый месячный. И ты, лада. И возрыдаю. Во сне возрыдаю, другим стану, а меня этого и в помине не будет. Вода соленая, пенная ляжет, оденет холодом тонким…
— Ворон! — вскрикнула женщина, — не рви мне душу! Не смей!
— И Северьян же в туманном облаке явится, головой кивать станет. Хорошо тебе, скажет, Ворон, в кзыл-башах.
— Не скажет! — опять вскрикнула женщина, и в голосе ее был страх. — Не скажет, Ворон, не скажет!
— Почему! — он приподнялся, взглянул на нее остро. — Почему? Скажи!
— Скажу! Расстриженного попа, что в Крыму, в Кафе на базаре стельками да тесьмой плетеной торговал, помнишь?
— Ларивона? Трехпалого, на верхней губе бородавка, рыжего?
— Да!
— Ну, так что, — помню!
— Так я его на Москве у церкви видала, у Спаса на Якиманке… милостыню просил.
— Ну, ну — и что? Ну, видела! Да как он на Москве оказался?
— А как и мы! Так же и утек!
— Хорошо, лада, хорошо, говори дальше… Что ж Ларивон тебе сказывал? Ведь сказывал же? Да?
— Сказывал, что бросили Северьяна в море рыбам на съеденье, оттого и нет более его на свете.