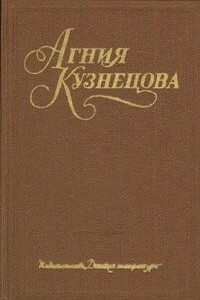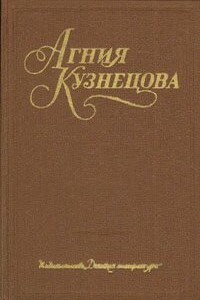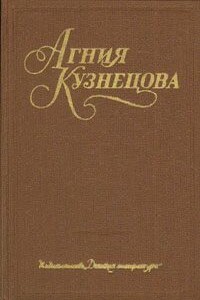Долли | страница 85
— А возвратившись, уже юношей, вы застали завсегдатаями вашего дома Карамзина, Василия Львовича Пушкина, юношу Жуковского, Дмитриева, — говорит Долли. — Видите, как я изучила вашу биографию! А еще я знаю, как император Николай I сказал по поводу вашего неучастия в декабрьском восстании: «Отсутствие имени его в этом деле доказывает только, что он был умнее и осторожнее других».
— Благодарю, дорогой друг, — улыбается Вяземский, — но все же мне сегодня хочется еще кое-что добавить. Я был между двух огней: отец хотел видеть во мне математика; Карамзин боялся увидеть во мне плохого стихотворца... «Берегись, — говаривал он, — нет никого жалче и смешнее худого писачки и рифмоплета».
— И как вы все же сделались поэтом?
— Помню, в 1816 году Александр Тургенев давал вечер в честь Карамзина. Все арзамасцы были налицо. Хозяин вызвал меня прочесть кое-что из моих стихотворений. Выслушав их, Карамзин сказал мне: «Теперь уже не буду отклонять вас от стихотворства. Пишите с богом». И Крылов, который был здесь, порадовал меня хорошим отзывом. Жребий брошен. С тех пор я признал себя сочинителем. А Пушкин встретил меня неласково. Вот как он обо мне писал: «Читал сегодня послание князя Вяземского (видно, он сердит, что величает меня княжеством!) к Жуковскому, напечатанное в «Сыне отечества» в тысяча восемьсот двадцать первом году. Смелость, сила, ум и резкость, но что за звуки! Кому был феб из русских ласко в... Неожиданная рифма Херасков не примиряет меня с такой какофонией». А Пушкин, оказывается, просто рассердился на меня за то, что я сказал, что язык наш рифмами беден. «Как хватило в тебе духа, — сказал он мне, — сделать такое признание?» Оскорбление русскому языку он принимал за оскорбление личное. Между тем если Карамзин и Пушкин бывали ко мне строги, то порою бывали и милостивы. Они нередко сочувствовали плодам пера моего. Драли меня за уши, но гладили и по головке.
Долли смеется.
— Но Карамзин прежде всего историк. Я к его стихам совершенно равнодушна.
— Вот тут уж, позвольте, милая Долли, не согласиться с вами, — возразил Вяземский. — До Карамзина стих был напряженный, надутый. Поэзия наша, за исключением Державина, была отвлеченной, равнодушной. С Карамзиным родилась поэзия чувства, любви к природе, нежных оттенков мыслей и впечатлений — словом, родилась поэзия внутренняя, задушевная. В ней впервые отразилась не одна внешняя обстановка, но в сердечной исповеди сказалось, что сердце чувствует, любит, таит и питает в себе. Из этого, пока еще согласен я, довольно скромного родника пролились и прозвучали позднее обильные потоки поэзии Жуковского, Батюшкова, Пушкина, оплодотворившей нашу поэтическую почву. Разве можно, например, не полюбоваться красотой такого живописного стиха: