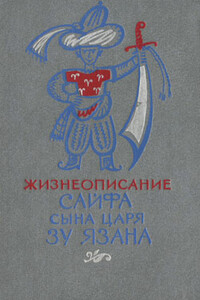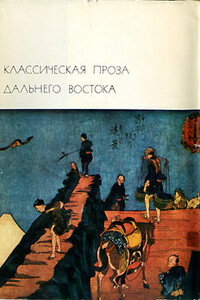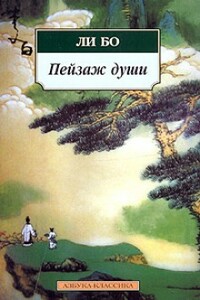Из книг мудрецов. Проза Древнего Китая | страница 18
«Луньюй» содержит высказывания Конфуция, записанные его учениками. Русский перевод названия — «Суждения и беседы», не совсем точен, однако он правильно передает содержание памятника и звучит много лучше буквального перевода: «Обсужденные изречения». «Обсужденные» потому, что, собравшись вместе, ученики сообща создавали эту книгу, тщательно обговаривая и сверяя все то, что сохранилось в записях и в памяти каждого. Созданная в V в. до н. э., она пережила книжные костры Цинь Ши-хуана и дошла к эпохе Хань в трех редакциях: в «краткой», сохранившейся в родном царстве Конфуция — Лу (20 глав или свитков), в «пространной», бытовавшей в приморском царстве Ци (22 главы), и в «древней», якобы замурованной в стене дома Конфуция и затем, при перестройке, обнаруженной одним из его потомков. Сейчас трудно сказать, какая из них послужила основой современного текста — скорее всего, все они, поскольку в эпоху Хань текст редактировался и унифицировался.
Выбранные фрагменты дают довольно полное представление об этико-политических взглядах Конфуция, который рассматривал государство как подобие большой семьи и во главу угла ставил нравственное совершенствование человека. Если же мы подойдем к «Суждениям и беседам» с литературной точки зрения, то обнаружим в них удивительно яркий образ самого Учителя, ведущего учеников не к накоплению суммы знаний, но к познанию Истины.
Высказывания Конфуция порой вызывали у европейцев недоумение, их называли «банальными», а великий Гегель как-то заметил, что для славы Конфуция было бы лучше, если бы его высказывания никогда не были переведены. Надо сказать, что с непониманием Конфуций сталкивался и при жизни. Как-то, прибыв в старый храм в столице древних правителей Китая, Учитель стал почтительно расспрашивать о церемониале Слышавшие это были удивлены: «Какой же он мудрец, если даже церемониала не знает!» — «Но в этом-то и состоит церемониал» — ответил им Конфуций, никогда не забывавший о скромности.
Правители с недоверием относились к странному человеку в непривычно простом платье, который пытался наставлять их в делах государственного управления. Простые люди ждали от его знаний сиюминутной пользы и недоумевали, если он не мог дать дельного совета, как сажать капусту, или спрашивал, где брод на реке,— какой же он после этого мудрец. Его готовность склонить голову перед образцами мудрости и добродетели умаляла его в глазах многих современников, а потомкам казались смешными и вредными его старания приблизиться к сущности через внешнее.