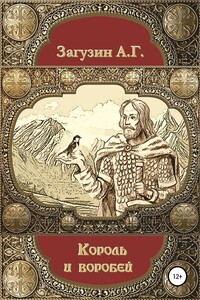Штурман | страница 57
Мне же Анечка не казалась ни злой, ни пошлой. Я был от нее в тайном восторге и люто ненавидел каждого, кто осмеливался в моем присутствии пройтись по ее достоинствам или моральному облику. Правда, вслух я этого не говорил и даже поддерживал рассказчика отрывистым одобрительным смехом, дабы не навлечь на себя обоснованное подозрение в недопустимой лояльности и не стать посмешищем. Таким образом, я обучился и еще кое чему, а именно молчаливому предательству.
Находясь в тиши моей каменной беседки или прислушиваясь в ночи к ровному сопению спящих однокашников, я предавался своим неоформленным мыслям и мечтам о моей развратной пассии, безраздельно царившей в моей душе, когда Господь милостиво не дал мне еще ума для четкой формулировки моего чувства. Милостиво, потому что, пойми я тогда суть моих переживаний, безусловно сгорел бы от стыда и отчаяния.
Но в моих мечтательных томлениях все было иначе. Анечка, которая, живи она в другом месте и времени, несомненно стала бы портовой шлюхой или разменивающейся на стакан дешевого портвейна шалавой, рисовалась мне наделенной всеми мыслимыми благодетелями принцессой, самым ярким цветком райского сада, в котором я, конечно же, был садовником. Мне все было ясно: к ее сегодняшнему стилю жизни мою Анюту склоняет лишь непонимание того, какое бесконечно-лучистое счастье она обрела бы в моих объятьях! Злые испорченные люди используют ее наивность и девичью доверчивость, не подозревая, насколько омерзительна их гнусная похоть! Но я положу этому конец, непременно положу!
В моих ночных подвигах я неизменно избавлял Анечку из лап разбойников, насильников и директора лагеря, я спасал ее из самых, казалось, безнадежных ситуаций, а она, разумеется, платила мне за это страстной любовью и незыблемой верностью. Тогда я, пожалуй, еще верил в сказки со счастливым концом, и мечты мои не казались мне столь уж далекими от реальности.
И представьте, они сбылись! Правда, частично, поскольку предмет моего вожделения так никогда и не очутился в моих всепрощающих объятиях, но благодаря необъяснимому, мистическому случаю я все же сумел кое в чем помочь моей дорогой вожатой. Жаль лишь, что она об этом так и не узнала.
Началось с того, что на утреннем построении я не увидел объекта моих грез на ее обычном месте – возле флагштока с развевающимся лагерным знаменем. В этом, конечно, не было ничего удивительного – последствия бурной ночи могли просто не позволить Анне Юрьевне присутствовать на «распределении работ», принудив ее отдаться мягкому теплу кровати – однако тот факт, что не появилась она ни за завтраком, ни за обедом, а драйка полусгнившей сцены никому не нужного клуба контролировалась кем-то другим, заставил меня заподозрить Анечку в серьезной болезни, а то и вовсе в отъезде в город по каким-то делам. Однако, даже не дорисовав картинку о том, как чудно было бы, кабы я мог ее сопровождать, я был отвлечен приказом воспитательницы «убраться с глаз», а в суматохе наполненного новыми идиотскими работами дня более о ней не вспомнил. Следующий день прошел так же малопримечательно для меня: Анечка не появлялась, а без нее мое лагерное существование становилось и вовсе невыносимым. Не видя ее хотя бы издалека, не слыша ее характерного, с чуть заметной хрипотцой голоса и не наблюдая ее раскачивающегося на веревке за бараком нижнего белья советского производства я хирел и впадал в меланхолию, проникаясь ко всему миру неприязнью, граничащей со злобой. Я уверил себя, что зазноба моя проводит свои выходные дни в городе, и стал терпеливо дожидаться ее возвращения, привычно поглядывая на ведущую в ее закуток дверь в надежде, что та вот-вот откроется и Анечка вынесет на порог свое великолепное тело.