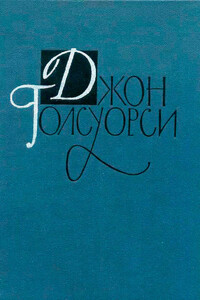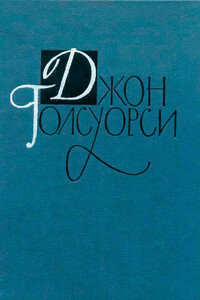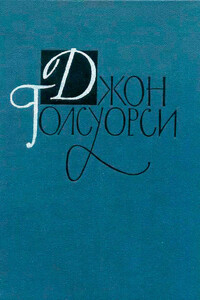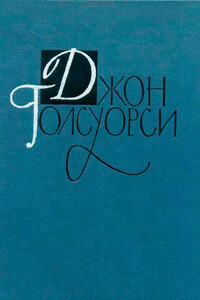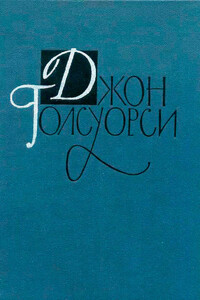Джон Голсуорси. Собрание сочинений в 16 томах. Том 13 | страница 36
— Шутите на здоровье, Камбермир, — заявил он, — но теперь-то я вцепился в этих свиней мертвой хваткой!
И, несомненно, он сказал правду — этот человек стал серьезной силой: несчастных немцев — некоторые из них, конечно, были шпионами, но большинство, несомненно, были ни в чем не повинны — каждый день отрывали от работы и семей и бросали в концлагеря — и чем больше их бросали туда, тем больше повышались его акции слуги отечества. Я уверен, что он это делал не ради славы — это было для него крестовым походом, «священным долгом»; но, по-моему, он к тому же впервые в жизни почувствовал, что живет по-настоящему и получает от жизни ее лучшие дары. Разве он не разил врага направо и налево? По-моему, он мечтал сражаться по-настоящему, на фронте, но не позволяли годы, а он не принадлежал к тем чувствительным натурам, которые не могут губить беззащитных, если рядом нет никого посильнее. Помню, я как-то спросил его:
— Харбэрн, а вы когда-нибудь думаете о женах и детях ваших жертв?
Он оскалился, и я увидел, какие у него прекрасные зубы.
— Женщины еще хуже мужчин, уверяю вас, — ответил он. — Будь моя власть, я бы их тоже упек. А что до детей, то без таких отцов им только лучше.
Он, право же, слегка помешался на этой почве, не больше, конечно, чем любой другой человек с навязчивой идеей, но и никак не меньше.
В те дни я все время ездил с места на место и покинул свой загородный коттедж, так что не видел Гольштейгов и, признаться, почти забыл о том, что они существуют. Но, вернувшись в конце 1917 года домой после отлучки по делам Красного Креста, я нашел среди своей корреспонденции письмо от миссис Гольштейг.
«Дорогой мистер Камбермир!
Вы всегда по-дружески относились к нам, поэтому я и осмелилась Вам написать. Вероятно, Вы знаете, что больше года назад моего мужа интернировали, а в прошлом сентябре он был выслан. Он, конечно, все потерял, но пока что здоров и может жить в Германии без особой нужды. Мы с Гарольдом остались здесь и еле перебиваемся на мои маленькие доходы. Мы теперь считаемся «гуннами в нашем тылу» и фактически ни с кем не видимся. Какая жалость, что нельзя заглянуть друг другу в сердце, не правда ли? Я раньше думала, что мы народ, высоко ставящий справедливость, но теперь поняла горькую правду: в трудное время справедливость невозможна. Гарольду гораздо хуже, чем мне; он очень сильно переживает свое вынужденное бездействие и, наверное, предпочел бы «выполнять свой долг» в концлагере, чем оставаться на свободе, испытывая всеобщее недоверие и презрение. Но я все время в ужасе: а вдруг и его интернируют? Когда-то вы были в дружеских отношениях с мистером Харбэрном. Мы его не видели с первой военной весны, но знаем, что он принимал активное участие в антигерманской агитации и стал очень влиятельным человеком. Я не раз думала, в состоянии ли он понять, что значит это интернирование без разбора для семей интернированных. Не могли бы вы при случае поговорить с ним и объяснить ему это? Если бы он и немногие другие перестали давить на правительство, преследования прекратились бы, так как власти не могут не знать, что все действительно опасные элементы давно изолированы. Вы и представить себе не можете, до чего мне теперь одиноко у себя в родной стране; если я потеряю и Гарольда, то могу совсем пасть духом, хотя это мне и несвойственно.