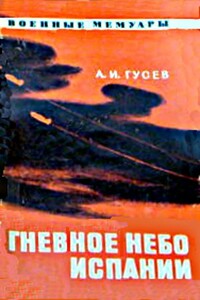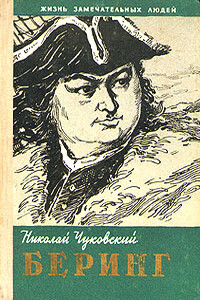«Этот ребенок должен жить…» Записки Хелене Хольцман 1941–1944 | страница 69
Беба замолчала. У меня перед глазами стояла эта мрачная, ужасная картина. Вот и мужа моего так же поставили лицом к стене! И мою Мари! Значит, и мы пели нашу горькую песню по тем же нотам, песню утраты. Безумие германского «фюрера» с энтузиазмом подхватила бессмысленная чернь, и теперь каждая роковая минута несет смерть тысячам семей — разных семей, добрых и злых, аристократам и простолюдинам. И главное — эти люди, которых теперь убивают, в любом случае, ни в чем перед своими убийцами не виноваты.
И давит, как петля на шее, как удушье, давит один и тот же вопрос: как такое может быть? Что мы за люди такие немцы, кто мы, в чем наша суть? Мы изничтожаем сами себя, в слепой ярости перемалываем собственную плоть. Никогда еще мир не видел такого сумасшествия.
Беба между тем продолжала.
Я ходила по пятам за тем человеком, что пригнал меня сюда, не отставая ни на шаг с одной и той же просьбой: допросите меня, наконец! Ладно, согласился он, пойдемте со мной. И повел куда-то вниз по ступеням, в подвал полицейского управления. Я оказалась во мраке, взаперти. Тьма такая, ничего не видно. Сначала я думала, я одна, потом слышу: стонет кто-то тихо-тихо. Кто здесь? Оказалось, кроме меня там заперли еще шестерых женщин. Они сидели почти неподвижно, опустив руки, но я не собиралась сдаваться так просто: кинулась к двери, колотила кулаками, кричала. Да толку-то.
Утром, на рассвете открываю глаза, и мне делается дурно: вокруг серо, грязно, мерзко, гадкие грязные мешки навалены на полу, и на них — женщины, человек пятьдесят, в полном отчаянии. Утром принесли тепловатой воды, в которую накидали хлебных корок. И каждой по куску хлеба. Ни умыться, ни причесаться, ничего. В отхожее место повели один раз всех вместе, один раз за весь день. Грязь невообразимая вокруг. На обед принесли щи из прошлогодней кислой капусты, наполовину уже сгнившей. Многие поначалу вообще есть отказывались, но голод, известное дело, не тетка.
То и дело к нашей клетке подходили немецкие солдаты — «полюбоваться на еврейских баб». И наш вид, опустившихся, грязных, измученных, весьма их забавлял. Хохотали от души, за животы хватались: «Так вот как выглядит это отребье! Знатные телки! Бррр! Вот дерьмо-то!» Были, правда, и такие, что умолкали, глядя на нас — жалких, убогих. Но таких, конечно, были лишь единицы.
Спустя пару дней нас распределили по камерам, человек по десять в каждую, так что мы все время оставались вместе. И в один из первых дней я познакомилась с Соней. Соня же намного сильней меня, она мне помогла, она вытащила меня из моего отчаяния.