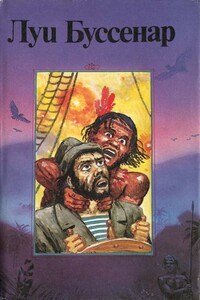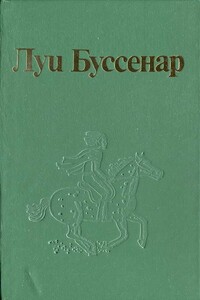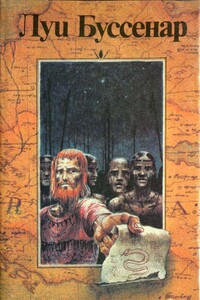Луи Буссенар и его «Письма крестьянина» | страница 46
Но вернемся к жатве вызревших зерновых культур. Обычно сама жатва длилась около полутора месяцев. Но вот поле сжато… И остается очень тяжелая и трудная работа: обмолот зерна. Сегодня существуют паровые молотилки, которые запросто обрабатывают урожай среднего крестьянского хозяйства за полдня, но в прежние времена всем членам семьи приходилось сутками напролет молотить цепами, чтобы управиться с молотьбой в срок.
Да, тяжелая и грязная это работа — обмолот зерна на крытом гумне! Там столько пыли, что можно задохнуться и ослепнуть… Каждый, кто попадает в ригу, начинает чихать и кашлять, ибо горло немилосердно дерет, в носу свербит, а из глаз так и катятся слезы. После такой работы дьявольски хочется есть, и молотильщики обычно нажирались от пуза, а потом (прошу прощения за грубое словцо) пердели не хуже ослов, а ведь осел, как известно, самое обильно пукающее животное из всех, созданных Отцом Вседержителем. Итак, молотильщики составляли значительную конкуренцию ослам, так что в народе поговаривали: «пердеть как молотильщик».
А проклятая молотьба продолжалась в течение долгих недель и даже месяцев, потому что надо было обмолотить различные зерновые культуры: рожь, пшеницу, овес и ячмень. Когда зерно оказывалось на полу риги, свободное от соломы, его приходилось провеивать чуть ли не через три решета, чтобы очистить от остей и мелких чешуек, а затем предстояло еще и избавиться от пыли, а ее там было ужас сколько. Для этого зерно загребали лопатой, а потом перебрасывали с места на место, порцию за порцией. Сколько времени бывало потеряно даром! Тогда еще слыхом не слыхивали о веялке, которая за час делает столько, сколько крестьянская семья не смогла бы сделать и за целый день. Но вот наконец зерно очищено от всяких примесей. Его укладывают в мешки и грузят на спину все того же смиренного и преданного сотоварища крестьянина, который и доставляет драгоценную ношу, являющуюся основой всей жизни на земле.
Итак, на спину ослику навьючивали тяжелые вьюки, а затем раздавался крик: «Вперед, Малыш!», и ослик покорно трусил на рынок или к мельнице. На рынке за зерно выручали несколько монет по сто су, которые исчезали в большом вязаном кошельке или шерстяном чулке, чтобы быть извлеченными на свет Божий только в случае крайней нужды. А с мельницы ослик возвращался с мешками муки, в которую нужно было превратить зерно, чтобы испечь хлеб.
Да, то была мука грубого помола для выпечки серого хлеба, хлеба, заработанного тяжким трудом, оплаченного крестьянским потом, хлеба, которому хорошо знали цену, потому что каждый кусок являлся результатом больших усилий и зачастую напоминал об испытанной боли, а потому к нему относились с величайшим почтением, но в то же время и гордились им. И то была законная гордость земледельца!