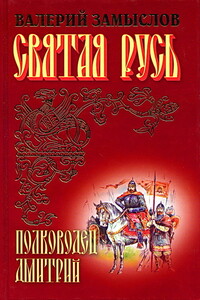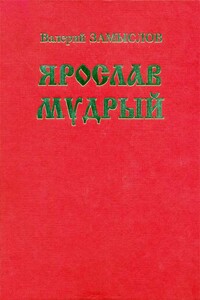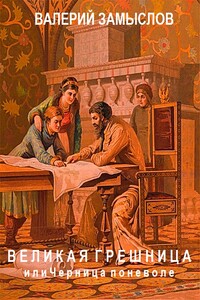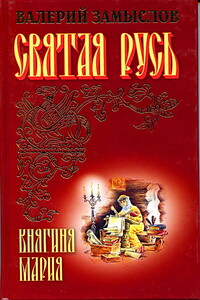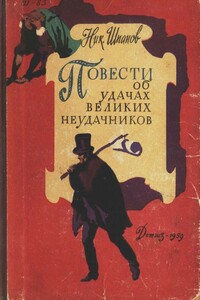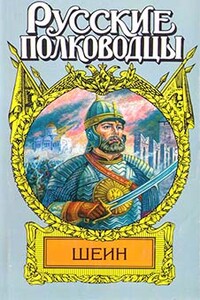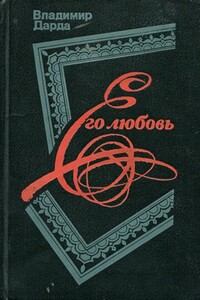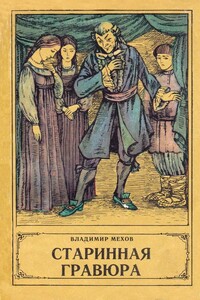Святая Русь - Полководец Дмитрий (Сын Александра Невского) | страница 23
Промысел рыбы - один из самых древнейших местного населения. Из поколения в поколение передаются название рыбацких тоней, границы коих ничем не определены, кроме памяти народной. Каждая занимает полосу в сто-двести саженей и имеет своё наименование, связанное с очертаниями берега (Болото, Треста, Холмочек, Глина), или с заметными береговыми предметами (Синий камень, Могилки, Черный крест), или с устьями рек и ручьев (Кухмарь, Слуда, Сиваныч, Дедовик…). Всего рыбаки насчитали шесть десятков тоней. И каждый рыбак отменно ведает, в какой тоне, на какой глубине, в какое время и на какую приманку можно ловить ту или иную рыбу>17. .
Вот и сейчас заметны многочисленные ловы. На многих тонях виднеются челны-однодеревки, а по берегам снуют рыбаки с сетями, мережами, мордами>18, бреднями… В полуверсте от Ярилиной горы переяславцы тянули большой невод.
Лицо князя Дмитрия ожило, глаза заискрились азартными огоньками. Покойный Александр Ярославич весьма любил этот промысел. Вот и он, Дмитрий, не раз брался с рыбаками за тяжелый невод.
Сбрасывая на ходу с покатых плеч малиновый бархатный кафтан, шитый золотой канителью>19, князь поспешил к рыбакам.
Г л а в а 7
ТЕСТЬ, ЗЯТЬ И ВНУКИ
Июньское солнце доброе, веселое, недавно над Ростовом Великим всплыло, а уже изрядно землю пригревает. В яблоневом и вишневом саду, радуясь раннему, погожему утру, заливает свои звонкие трели шустрый соловей, щебечут птицы.
Румяное солнышко играет на цветных стеклах купеческого терема, на причудливо изукрашенных петушках.
«Добрый денек выдался, - сидя на красном крыльце и довольно поглядывая на внука, размышлял Василий Демьяныч. - Вот так бы до самого Новгорода без дождинки. Нет хуже для торгового обоза непогодь, много товара может подпортить».
- Не забудь, Васютка, рогожи взять. Погода проказлива. До Новгорода - не близок свет. И дегтю не забудь! Без колеса телега не ездит.
- Да ты что, дед? Аль в первый раз в дальний град снаряжаюсь? Никогда ничего не забываю, - степенно отвечал тридцатилетний Васюта, укладывая на подводу кули с хлебом, солью, круги желтого воска, бобровые меха, мед в липовых кадушках…
Две другие подводы дворовые люди Митька и Харитонка (обоим уже далеко за сорок) загружали знаменитым ростовским осиновым лемехом>20, коим по всей Руси покрывали деревянные купола церквей, кровлю княжеских и боярских хором, проездных и глухих башен крепостей. Такой товар всюду брали нарасхват: покрытые ростовским лемехом купола, башни и крыши держались веками; они не гнили, не трескались, не боялись ни самых продолжительных дождей, ни обильных снегопадов, ни жаркого солнца. Но изготовление лемеха требовало большого искусства. Когда-то трудно верили, что для лемеха непременно нужна осина. Не смолистая, кондовая сосна, привычно применяемая в русских деревянных постройках, а простая осина. Впрочем, далеко не простая, а выросшая на высоких песчаных холмах, среди хвойных лесов, осина свежесрубленная, но не волглая, осина с чистой древесиной без сучков и дупел.