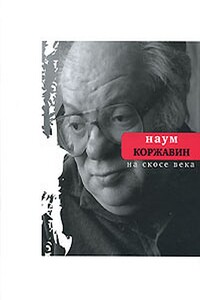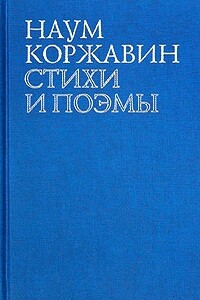В соблазнах кровавой эпохи | страница 32
Второй мальчик, сын Щиглика, тоже особыми школьными успехами похвастать не мог, тоже не раз оставался на второй год, интересы наши тоже скоро разошлись, но по улицам он не гонял, работал (семья нуждалась, может, поэтому он и не шибко учился), потом, вернувшись с войны, что-то окончил, приобрел профессию и успешно работал (и сейчас работает, если не ушел на пенсию) на одном из киевских заводов.
Нет, я не поборник равенства. Люди не равны ни по ответственности, ни по уровню постижения и потребности в истине, ни по многим другим параметрам. Эта простая мысль — одно из самых грустных открытий моей жизни, а может быть, и целого отрезка новой истории. Но перед Богом люди все равно равны. Это означает, что их жизни в главном равноценны. И что почти у каждого из них есть свои преимущества перед другими. И что нельзя — даже в душе — третировать детей за недостаточно «аристократическое» происхождение. Правда, плохо и то, когда взрослые люди лишены чувства реальной иерархии и пафоса дистанции. Но это другая тема.
Впрочем: оградить меня от самого разнообразного общения все равно бы не удалось. Слишком уж я рвался к детям, к общению. Да и не таков был век. Вскоре произошло событие, о котором я уже упоминал,— под напором «социалистического развития», будучи прижат к стене преследованиями и придирками, мой дядя вынужден был проявить «сознательность» и «добровольно» передать свой дом «жилищному кооперативу», практически — государству. Мы оказались объединенными с уже упоминавшимся соседним домом № 97А. Стену между дворами вместе с нашими сараями сломали, и образовался большой двор со множеством самой разной детворы, и тут уж и моей маме было не разобраться, кто «хороший», а кто нет.
При всем моем отрицании подобного отношения к людям, что-то от него засело во мне надолго. Хоть я и общался со всеми детьми, но дети из интеллигентных семей (или ошибочно казавшихся мне таковыми) имели в моих глазах некоторое преимущество, вызывали больший интерес. Я чего-то от них ждал. Как и от себя самого. Потом это превратилось в поиски все более и более подлинной интеллигентности, более точного соответствия человека тому, за что он себя принимает и чем хочет казаться (себе самому тоже). И сам я при этом — льщу себя надеждой — становился подлинней и начинал ценить человеческую подлинность как таковую. Конечно, не только в интеллигентах, а во всех хороших людях, каких я на своем пути встречач немало в самых разных слоях.