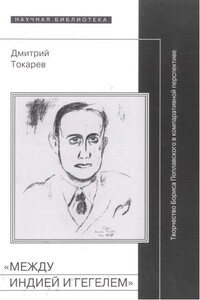Люциферов бунт Ивана Карамазова | страница 64
Заданный ряд характеристик и толкований образа сатаны (дьявола) может быть, естественно, продолжен, но в данный момент, как нам кажется, в этом нет необходимости. Свободно ориентируясь в широком пространстве многообразных трактовок злокозненного библейского персонажа, Ф. М. Достоевский безоговорочно разделял традиционное христианское толкование ветхозаветных фрагментов как именно относящихся к дьяволу и мог бы повторить вслед за Пушкиным: «Я верю Библии во всем, что касается Сатаны; в стихах (библейских авторов Иезекииля и Исаии. – В. Л.) о Падшем Духе, прекрасном и коварном, заключается великая философская истина»[113]. Художник постигает в этом таинственном существе проявление одной и той же силы вселенского метафизического зла, многообразной и разноликой.
Оговорив наши исходные позиции, перейдем теперь к непосредственным наблюдениям, к уяснению степени и смысла принципиальных сходств между Иваном и Люцифером. Начнем с того, что обозначим общие контуры характера Ивана Карамазова, психо-эмоциональный состав его личности. Едва ли не самое сильное впечатление производит на читателя гордость Ивана.
Гордость
Рассказчик: «Сам Иван… даже и попытки не захотел тогда сделать списаться с отцом, – может быть, из гордости, из презрения к нему…» (14, 15).
Рассказчик: Иван «столь гордый и осторожный на вид» (14, 16).
Миусов: «Он (Иван. – В. Л.) горд… всегда добудет себе копейку…» (14, 16).
Смердяков: «…Деньги любите, это я знаю-с, почет тоже любите, потому что очень горды, прелесть женскую чрезмерно любите, а пуще всего в покойном довольстве жить и чтобы никому не кланяться – это пуще всего-с…» (15, 68).
Смердяков: «От гордости вашей думали, что я глуп» (15, 68).
Чёрт: «Ты оскорблен, во-первых, в эстетических чувствах твоих, а во-вторых, в гордости: как, дескать, к такому великому человеку мог войти такой пошлый черт?» (15, 81).
Смердяков: «Бога-то нет-с, слова, а все-то гордость» (15, 325).
Алеша: «Муки гордого решения… Или восстанет в свете правды, или… погибнет в ненависти» (15, 89).
Здесь важно отметить, что, характеризуя своего героя как человека гордого, Достоевский вложил в это определение именно тот смысл, который слово «гордость» имело в его время. И. Волгин справедливо указывает, что в словаре Даля, вышедшем вторым изданием в 1880 году, «не приводится ни одного значения слова „гордость“ хоть с каким-нибудь мало-мальски положительным оттенком. Гордость в народном понимании равносильна гордыне; качество это сугубо отрицательное, заслуживающее нравственного осуждения»