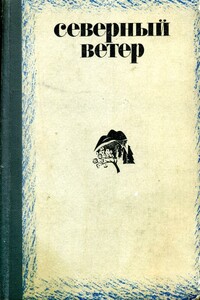Смерть и воскрешение А.М. Бутова (Происшествие на Новом кладбище) | страница 54
В сознании промелькнуло: стук шагов в этот поздний час может показаться соседям подозрительным, Бутов стал ходить на носках, сбросил ботинки. В странноватой «игре в слова», к которой Бутов пристрастился вслед за Р., слово «соседи» само собой изменилось в — «свидетели». Свидетели обвинения, конечно, — других сейчас не бывает. Хотя какой там «суд», и кому нужны «свидетельские показания» в царстве лжи? Как-то профессор Р. сказал: «Презумпция виновности сменила презумпцию невиновности — самое высокое деяние человеческого ума и сердца. Люди делятся на подозреваемых, обреченных и подозревающих, на хватаемых и хватающих».
Бутов остановился у окна и дочитал письмо уже при свете луны.
«Для Пушкина самое людское — жалость; «и в сердце жалость умерла» — значит, и не человек больше. Новые гомункулы прежде всего безжалостны. Обратим ли в исторической перспективе этот процесс обесчеловечения? Нам, старикам, не дано знать, но что думаете об этом вы, ваше поколение? Заглядываю в глаза прохожих, в глаза студентов на лекциях, на семинарах, и как редко встречаешь ответный сочувственный взгляд… А если в гигантскую реторту затолкнут постепенно весь мир — народ за народом, страну за страной? Известно ли вам, что в самом начале двадцатых годов Ленин пожелал беседовать с Кропоткиным? Они встретились в Румянцевской библиотеке: место избрал Кропоткин, идти в Кремль он отказался. О чем они говорили там, на верхней лестничной площадке библиотеки, — человек, вобравший в свою «Этику» весь нравственный опыт человечества, еще от библейского «не убий», и его собеседник, заново провозгласивший нечаевское — «морально то, что полезно революции».
Все же Кропоткину и многим другим казалось, что человеческое в людях сильнее, оно должно в последнем счете победить. Самое странное, что мне и сейчас представляется, что победа будет за справедливостью, хотя я пишу это перед гибелью не только неизбежной, но и очень близкой… Стучат в дверь…»
Письмо оборвалось…
Бутов различил тротуар — там, далеко в прозрачной темноте — и подумал: «Конечно, лучше бы открыть окно и выпрыгнуть; и все, и дело с концом. Ведь я из «подозреваемых», чего же мне ждать, любимому ученику Р.? Вспомнилось: «Кто нес бы бремя жизни, когда б не страх чего-то после смерти». В Бутове этого страха не было; ведь он еще ничего не знал о посмертном суде над собой.
Чего же он медлил?
Вспомнилось, что и в пять лет, когда погибла мать и он увидел труп на мостовой, было это влекущее чувство выпрыгнуть за окно. «Что же оно у меня — в крови, что ли? В крови эпохи. Вот ведь Есенин — повесился, Маяковский — расстрелял себя. В крови эпохи. Эпоха на крови».