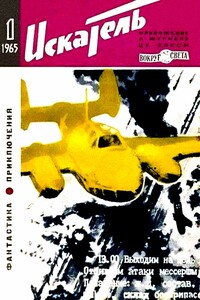Дыхание | страница 7
Сегодня я ушел из духоты толстых стен, в которых проистекает журнальная жизнь, чтобы поразмышлять post
factum: как получилось, что я начал вести записи?
Мне придется что-то отмечать, что-то касающееся только меня и произошедших во мне изменений, но начать с чего-либо невозможно. Не за что зацепиться.
Все было и будет со всеми. Писать, в сущности, не о чем, но я не страдаю отсутствием материала.
Напротив: проблема в его изобилии. В его абсолютной бесформенности, такой ясной и близкой, что молчать больше нет сил.
В моей жизни среди людей не было чего-либо интересного. Все происходило в той недосягаемой для науки сфере, которую называют душой. Теперь я чувствую себя командировочным, который выскочил на полустанке за стаканом молока и догоняет поезд. Душа покидает литературу, становится столь же неуловимой для нее, сколь для науки и прочих разновидностей точного расчета. Совсем недавно, год или два назад, я пытался написать книжку о невесомости, в которой оказался. Ничего не вышло из этой затеи. Окна дома, который я снимал в те дни, глядели в здание ДК, прочный деревянный сарай с ионическими колоннами.
Первый приступ перестройки вымыл из него все кружки вязания-шитья и рабочекрестьянские дискотеки. Затем его отдали под коммерцию, после присудили рок-клубу, но не прижилось, и теперь он зиял день и ночь отрешенно, свободно, потерянно и легко, сквозя словами, которыми я удосуживался его наградить, и походил на старую усадьбу. Спору нет, ДК был абсолютно бесполезен, и по запарке ранних дней капитализма никто не сподобился отдать его под военный склад или сбагрить, и сносить его никто не собирался. Я глядел в его черные проемы и отводил душу. Он стоял не как затонувшая церковь, а наоборот
- как единственное, что уцелело от потопа, который, слава богу, случился, и если бы не он, то все сгорели в переполненной камере. Когда я смотрел на него, выражение “снять дом” обретало для меня новый и весьма существенный оттенок. Снять дом как ботинки, вернувшись домой, как часы и трусы, отправившись в ванную, как резиновую шапочку сна, когда вновь выходишь в балаган, где торгуют порноиконами. Звучит неново, но весь мир - матрешка; в одном доме - другой, в нем третий и так далее, до самой сердцевины, до того, что не имеет названия, что меньше молекулы, больше вселенной; снять дом и сгинуть, и забыть, и углубиться в нечто такое, куда порой так нелегко вернуться, если не снять жилье в забытом крае, где минус тридцать в каждой душе.